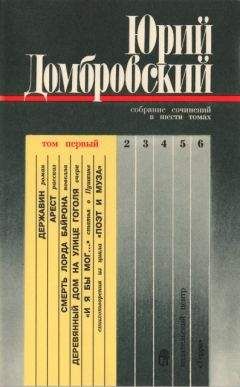Очень жалко! Иначе, конечно, он бы не стал сейчас допрашивать его.
А эти люди — его крепостные. Он здесь путешествует по своей надобности.
По какой надобности? Ну, что ж, он может и это открыть. Он хотел здесь купить земельный надел, ибо, как говорят, здесь плодороднейшая почва, немереные просторы, и достается она задаром.
Документы? У него есть все документы.
Максимов улыбался, пожимая плечами, говорил то по-русски, то по-французски и под конец совсем сбил с толку нерасторопного офицера. Его документы, конечно, были в порядке. У слуг же командир даже и не догадался спросить их.
Вечером сели играть в карты. И Максимов, может быть, первый раз в жизни, проиграл двести рублей и не отыгрался.
А утром двинулись дальше. Конечно, ни о каких поисках сокровищ говорить уже не приходилось. Черняй совсем осел, побледнел и шел опустив глаза. Иногда он внезапно останавливался и начинал бормотать себе под нос, размахивая руками и показывая на далекую синеву горизонта.
Серебряков и Максимов зорко следили за каждым его движением. За последнее время его голова приобрела особую ценность.
Опять кружили они около курганов. Опять Черняй высматривал каменных баб, по звездам определяя место клада. Однако идти теперь надо было не прямо, а кружными путями.
И наконец случилось то, чего давно ожидал и боялся Максимов. Ночью Серебряков разбудил его. Слабо потрескивая, горел костер, вырывая из темноты лицо Серебрякова.
— Что такое? — спросил Максимов.
Серебряков толкнул его локтем.
— Крутит да вертит, трет да мнет, — сказал он, показывая на мирно спящего Черняя. — Только беды с ним наживешь. Ведь он — преступник государственный. Ему и от русских и от турков бежать нужно. А ведь тут турецкая граница. Русские его поймают, так второй раз небось не отпустят. А турки с нас живых шкуру сдерут. Это хорошо, что мы на своих напоролись. А если бы в турецкий стан попали, тогда бы на нас смотреть стали? Вырезали бы из спины по ремню и кверху ногами повесили.
Максимов посмотрел на Серебрякова, в голове у него гудело.
— Так что же делать? — спросил он.
Серебряков покосился на спящего Черняя.
— А то, что нечего с ним валандаться. Только беды наживешь. Выбрать время поудобнее да спустить с рук долой.
— Как спустить?
— Да уж известно как, — сказал улыбаясь Серебряков. — Долго валандаться с ним не приходится.
В степи было очень тихо. Только, умирая, потрескивал костер да в густой траве кричала какая-то птичка.
Максимов посмотрел на Серебрякова.
— И возьмешь ты себе на плечи такое дело? — спросил он.
Серебряков улыбнулся:
— Убить Черняя ничего не стоит. А вот отпустить его — за это вот по головке уж не погладят.
Максимов, не решаясь, покачал головой.
— Не знаю, — сказал он, глядя в глаза Серебрякову. — Думай уж ты сам.
— Я уже вздумал, — сказал Серебряков. — Я еще месяц тому назад все это вздумал. Только знать хотел, что вы скажете.
— Я как ты, — ответил Максимов.
— Ну, а коли так, — сказал Серебряков, — то и решать нечего. Ясное дело. — Он отошел от Максимова и, сбросив куртку, лег на нее. — Вам и мешаться не надо, — сказал он через минуту. — Я все один обделаю. Он и проснуться не успеет.
Подложив под голову руку и вытянувшись около костра, Черняй спал.
Через тридцать лет, составляя свою автобиографию, Державин так записал о Черняе:
«По обнаружении всех обстоятельств, сказать должно, что когда Серебрякову и Максимову не удалось вышеозначенных в польской Украине награбленных кладов отыскать, ибо все области те как военный театр против турков занят был войсками и не можно было им без подозрений на себя шататься в степях и искать клада, то они предводителя их Черняя отпустили или куда дели неизвестно».
II
Весь день прошел у Державина в хлопотах. Кроме прямых обязанностей, Бибиков нагрузил на него работу по приведению в порядок дневников, называемых так: «Дневные записи поисков над самозванцем Пугачевым».
Это была на редкость трудная работа.
Он сидел в канцелярии, замыкая двери на ключ и утопая с головой в ворохе исписанной бумаги.
Матушка Фекла Андреевна худела, горбилась, с каждым днем становилась все более молчаливой и опасливой. Здоровье сына волновало ее особенно. Раз она ходила даже к какому-то чудотворцу вынимать просфору за здравие воина Гавриила. Но спросить сына, где он засиживается по ночам, не смела и даже плакала только ночью, украдкой от домашних.
Мальчик возвращался поздно ночью, усталый, чем-то недовольный, и сразу же проходил в свою комнату.
Есть ему подавали туда же.
И всю ночь в комнате сына горел свет, и когда мать прикладывала ухо к замочной скважине, ей был слышен голос сына, произносящий какие-то непонятные для нее, диковинные слова. Собственно не голос даже, а пение. Мальчик пел.
Расхаживая по комнате, натыкаясь на мебель, он пел тягучим фальцетом о победе русского оружия, о славе, о божестве, о смерти, о жизни. Мать не разбиралась в этих словах, — слишком кудрявых и громких, чтобы быть понятными, но уходила от двери она с чувством, похожим на то, с каким недавно стояла на обедне чудотворца.
Она уже знала — сын ее сочинял стихи.
——————————
Однажды, возвратившись из комиссии, Державин увидел у себя в комнате странного гостя. Положив на стол какой-то пестрый узелок и прислонив к стене посох, сидел у стола, дожидаясь его, Серебряков.
Это явление настолько было чудовищным, что Державин даже не сразу поверил своим глазам.
А Серебряков уже встал с места и, низко поклонившись, подошел к нему вплотную.
— С приездом в вашу отчизну, Таврило Романович, — сказал он смиренно.
— Серебряков! Ты ли это? — спросил Державин ошалело.
Серебряков поклонился еще раз.
— К вашей милости прибегаю, — сказал он.
— Стой! Стой! — крикнул Державин. — Как же так? А где же Черняй?
Они стояли друг перед другом и смотрели друг другу в глаза. Внезапно Серебряков широко махнул рукой.
— Где ему полагается быть, Таврило Романович, там он и есть, — сказал он, улыбаясь.
Державин взглянул на него прямо и страшно.
— В тюрьме? — спросил он.
Серебряков покачал головой.
— Что ему в тюрьме сидеть? Он человек вольный, как тот ветер, что в степу. Либо смерть, либо воля.
— Так значит?.. — спросил Державин. — Значит, вы...
Серебряков улыбнулся.
— Значит, Гаврило Романович, что хочу я его высокопревосходительству Бибикову большую помощь оказать, дабы того вора и обманщика Емельку живьем взять и ее императорскому величеству доставить в клетке.
— В клетке?
— В клетке-с, Гаврило Романович, живьем для показа.
Державин опустился на стул и показал Серебрякову на кресло около себя.
— Ну, садись, рассказывай, — бросил он коротко.
Серебряков жирно откашлялся.
— Как я его высокоблагородием господином Максимовым из тюрьмы выпущен под его расписку...
— Да ты дело говори. Как ты думаешь помочь его высокопревосходительству, — прикрикнул Державин.
— ...То я и просил бы, чтоб он надзор за мной доверил ему же, господину Максимову, — спокойно докончил Серебряков.
Он вынул из кармана лист бумаги, сложенный вчетверо, и, развернув его, начал рассказывать.
План Серебрякова был серьезен, прост и примечателен. Не план, вернее даже, привез он Державину, а общие соображения насчет поимки Пугачева. Все основывалось на успешном действии правительственной армии, которая в последнее время стала теснить дерзкого самозванца.
— Несомненно, — говорил Серебряков, — разбитый самозванец подастся к раскольникам, ибо всему свету известно, что он и сам раскольник. И конечно, он придет к иргизским пустосвятам, тем воровским старцам, которые до сей поры его скрывали. И прежде всего на память ему придет — в дворцовое село Малыковку, где он уже раз был. — Вот тут и начинаются соображения его, Серебрякова.
Надо прежде всего знать, что он, Серебряков, исконный житель Малыковки.
— Ну, и что ж из этого? — спросил Державин.
— Хочу через сие предложить его высокопревосходительству, дабы он мои слабые силы для оного славного дела и использовал.
— Чепуха, — резонно сказал Державин. — Что за чепуху ты говоришь? Больше ничего не скажешь?
И, помявшись, Серебряков стал рассказывать дальше.
— Дело в том, — сказал он, — что мне раз уже удалось поймать вора, самозванца и плута Емельку Пугачева.
Державин вскочил с места.
— Как поймать? — спросил он.
Серебряков продолжал рассказывать.
В прошлом, 1772 году он, бывши в Малыковке, встретился с Иваном Фадеевым, ездившим на Иргиз в раскольничью Мечетную слободу для покупки рыбы. Сей Фадеев рассказал ему, что он был в доме у жителя той слободы Степана Косых и видел там некоего проезжего человека. Оный человек, собрав всех в горницу, а допрежь баб и ребят выслав вон, говорил о том, что хорошо бы предаться туркам, а военачальников перевешать. Говорил приезжий о том, что на Яике казаку оное дело уж накрепко решили и ждут только удобного момента. Яицкие-де казаки, говорил человек, согласились идти в турецкую область под его началом. Только-де, говорил приезжий, они допрежь всего военных людей всех перебьют. Он же, проезжий, много раз в той Туретчине был, все места там знает и уверить может, что турки их примут как своих родных братьев. Живи себе, как хочешь. Здесь же свои люди жить не дают. Говорят, что турки люты. А как они ни люты, свои военачальники еще их лютее. Из турков, говорил человек, кто вам что худого сделал, а военачальник каждого из вас утеснил да обидел.