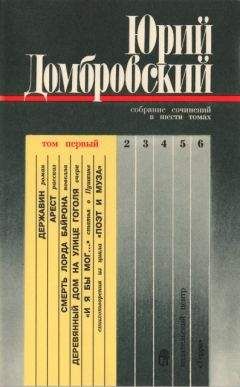Державин слушал неподвижно и молча.
— Посему, — сказал Серебряков, — услыша от Фадеева сии возмутительные речи и будучи сам болен, призвал я к себе надежного приятеля, дворцового крестьянина Герасимова, и просил его съездить в Мечетную слободу и от друзей разведать — от кого пронеслись такие возмутительные речи и кто сей человек, к бунту, неповиновению и смертоубийству призывающий.
— Ну и что ж? — сказал Державин, внимательно слушавший рассказ Серебрякова. — Узнал он что-нибудь?
Не торопясь и улыбаясь, Серебряков продолжал рассказывать.
— Да, разумеется. Герасимов ездил, как он есть первый друг мой, и по приязни к нему той же слободы житель Семен Филиппов сказал, что тот проезжий человек — вышедший с польской границы раскольник, и называется он Емельяном Ивановым Пугачевым. Сей человек, по разрешению дворцового управителя Позднякова, ездит и осматривает, есть ли для селитьбы место, а также он, Филиппов, подтвердил Герасимову вышепомянутые дурные разглашения.
— Ну и что же дальше? — спросил Державин. — Поймали Емельку?
Серебряков покачал головой.
— Нет, как в той Мечетной слободе его уже не было, а, по известиям, поехал он в село Малыковку, на базар, то Герасимов бросился туда и нашел его квартиру у экономического крестьянина Максима Васильева. И здесь велел за ним посмотреть. А сам подал через крестьянина Ивана Вавилова сына Расторгуева рапорт к властям. И вследствие оного Герасимов был доставлен в Симбирск, а оттуда в Казань для допросов и розыску.
— Так, — сказал Державин, прослушав Серебрякова до конца, и встал с места. — Но все сие является делом давно прошедшим, о чем же можно говорить сейчас?
Если бы тогда удалось поймать вора Пугачева, то было бы хорошо. Но что же он, Серебряков, думает сейчас? Ведь ни в Малыковке, ни в Мечетной слободе, ни в каких других местах Пугачева давно нету.
Но Серебряков оказался совсем не так прост. У него, оказывается, были свои соображения. Не торопясь, он стал их выкладывать.
— Сейчас самое время действовать, — сказал он. — Как наши верные войска ее императорского величества для истребления сего изверга пошли, то и должно надеяться, что вскорости злодейская толпа будет разбита наголову.
— Ну и что же? — спросил Державин.
Серебряков встал со стула и подошел к нему вплотную.
— Как — что же? — спросил он с глубоким удивлением. — да разве его высокоблагородие не знают, что сей вор, сей изверг, сей зверь бесчеловечный не кто иной, как раскольник?
— Знаю, — сказал Державин.
— Так вот, — торжественно сказал Серебряков, — из сего-то мое предложение вытекает. Куда сему вору, раскольнику податься после того, как его сила будет наголову разбита? Ясное дело — только к раскольникам. Он, злодей, принужден будет искать там убежища, как некая до своего объявления, а для сего лучшего места и найти невозможно, как на Иргизе или на узенях, у его друзей-раскольников.
— Так, так, — сказал Державин. — Что же ты думаешь делать дальше?
Он, Серебряков, просит, чтобы дали ему в товарищи Герасимова и Максимова и, снабдив их всех троих приличной суммой денег, послали в стан Пугачева.
— Денег? — спросил Державин.
Серебряков, не дрогнув, выдержал его взгляд.
— Да, денег, — сказал он серьезно. — Без денег такие дела не делаются. Тут нужен большой подкуп.
— И много денег? — поинтересовался Державин.
Наглость Серебрякова была чудовищной. Вчерашний колодник, обманом избавленный от тюрьмы, он приходил, после совершения убийства, к Державину и требовал денег, людей и средств.
— Много денег, — сказал Серебряков и даже вздохнул. — Одной тысячью здесь не отделаешься.
— Так, — протянул Державин, рассматривая его лицо. — Отлично. Еще чего спросишь?
А больше ему, Серебрякову, ничего не нужно, решительно ничего. Ему бы только заслужить вольные и невольные грехи перед ее величеством, а там...
Державин встал с места. Замысел был неверный и сомнительный, однако скрыть его от Бибикова он не смел.
— Ну, ладно, — сказал он, — хорошо. Оставь бумагу. Я завтра передам ее главнокомандующему. Зайдешь за ответом.
III
Поздней ночью, после разговора с Серебряковым, Бибиков принял подпоручика Державина. В кабинете было темно и тихо. На письменном столе горела только одна свеча, и первое, что увидел Державин, это было яркое световое пятно, вырывающее из мрака кусочек стола, заваленного бумагами, резную спинку кресла и склоненную к бумагам седую голову главнокомандующего.
При входе Державина он рывком повернул голову, поднялся со стула и пошел навстречу.
— Ну, здравствуй, здравствуй, — сказал он радушно, первым протягивая руку. — Только что сейчас просматривал дела судебные, кои ты мне на конфирмацию прислал. Иные подписал, а иные, просмотрев, отложил. Ужо думаю послать с курьером в Москву. Пусть они там разбираются. А я не мастак и не охотник до ябедничества. Однако кажется, что в сем деле без петли не обойдется.
Выжидая ответа, он смотрел на Державина.
Державин молчал.
Бибиков засмеялся.
— Как ты мне, бишь, из Казани писал? Сколь, мол, ни пори, сколь к присяге ни приводи, — все одно, народ по своей развращенности на царскую грамоту плевать хотел. Никто за помилованием не идет.
— Я не так писал, — улыбнулся Державин.
— Ну да, еще бы ты мне так писал. Я не о словах с тобой говорю, а о духе. О духе, коим все письмо было пропитано. Впрочем, — он махнул рукой, как о сем ни напиши — все равно ничего не изменишь.
Он хмуро смотрел на Державина. И вдруг лукаво, совсем по-мальчишески, прищурил левый глаз.
— А как ты мне сначала говорил? Непобедимое воинство премудрой матери нашей. Помнишь? И грудью на меня, грудью за то, что я слов таких не понимаю.
— Ваше превосходительство! — крикнул Державин. — Я никак не мыслил...
— Э... да что там говорить, — махнул рукой Бибиков. — Я, брат, тоже когда-то таким был, как ты. Все мне на свете ясным казалось. А на эти, на бунты народные, я попросту плевал, сударь. Как, мол, он, мужик, против моей шпаги дворянской с колом да с топором попрет? Да я его... А вот он взял топор и пошел. А мы сидим у моря и гадаем — чи так, а чи не так. Вот какое дело-то.
Он вдруг резко, с креслом, повернулся к столу и стал шарить среди бумаг.
Искал, не находил, отбрасывал бумаги в сторону, наконец нашел одну, исписанную крупным, неуклюжим почерком, и бросил ее на стол.
— Была бы у нас армия, — сказал он с горечью, — да люди, все это полдела было бы. А у нас и офицеры — те же Балахонцевы. — Он ударил рукой по листу бумаги. — Вот полюбуйся, комендант города, капитан гвардии, дважды из города бежал, как баба, захватив перины и денежный ящик. Боялся, видно, что отечество не переживет, если его, героя, на воротах вздернут. Приехал в Казань — бледный, губы трясутся, рукой за стаканом тянется — рука дрожит. Говорить о чем-нибудь начнет — и сейчас же соврет. И что бы ни сделал, что бы ни сказал — всего боится. Ты поверишь ли, когда я ему сказал — пожалуйте, сударь, вашу шпагу и будьте добры проследовать за моим адъютантом под арест, то он даже просветлел. Все, мол, кончилось. Никуда больше не пошлют, ни о чем не спросят. Да я, говорит, ваше благородие... Ладно, говорю, идите уж... идите, нечего там. Вот, сударь, какие у нас офицеры.
Державин молча разглядывал лицо главнокомандующего.
Ему показалось, что он поправился и даже пополнел. Белое холеное лицо было спокойно и даже весело. И говорил он легко, красиво, не затрудняясь, и по тону его голоса никак нельзя было понять, что он сделает сейчас — завопит от ужаса или, смеясь, шутя и острословя, будет продолжать свой рассказ.
Только когда он, жестикулируя, положил на минуту руку на спинку кресла, Державин заметил, как едва заметно, но четко дрожат его большие, прохладные пальцы.
— Тут силой ничего не сделаешь, — сказал главнокомандующий. Манифестами тоже. Тут кровью нужно, кровью бунт заливать. Юлий Цезарь говорит...
Но Державин так и не услышал, что сказал Юлий Цезарь. Главнокомандующий вдруг круто оборвал речь и заговорил о другом.
— Ты вот мне Серебрякова привел — и хорошо сделал. Эта птица залетная и говорит дельно. Однако не особенно я таким залетным соколам верю, за ними глаз да глаз нужен. — Он взял бумагу, исписанную со всех сторон старинным уставным письмом, с глаголами и титлами, и прочитал: — «А посему прошу дать мне в надзиратели здешнего помещика его высокоблагородие Максимова». Вот видишь, какую он штуку задумал: дай его Максимову.
Бибиков остро посмотрел на Державина.
— Максимову я его не доверю, — сказал он решительно. — Максимов — плут и его наперсник. А доверяю я его тебе. Ты мне его привел, ты и расквитывайся.
Державин наклонил голову.
— А теперь расскажи, что ты о нем знаешь. Что это за история с Черняем и с кладами?