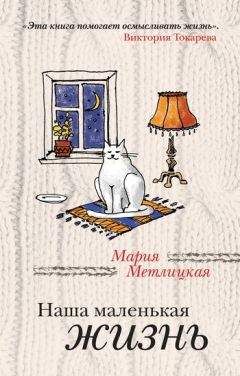Он удивился ее вопросу и слегка обиженно сказал:
– А ты что, предполагала другое развитие ситуации? – И потом добавил: – Ты когда будешь дома? Мы с Аленкой жутко голодные.
Женя рассмеялась, посмотрела в окно и сказала командным голосом:
– Ставьте греть суп. Да, и еще – почистите-ка картошку! А то все я да я! Обнаглели, ей-богу!
Она сердито захлопнула крышку мобильного, глубоко вздохнула, почему-то улыбнулась и, остановив машину, расплатилась и вышла. Затянув потуже пояс плаща, она надела перчатки, опять вздохнула и посмотрела на небо. Оно было чистым и ярко-синим. Удивительно синим. Под ногами шуршали чуть подмерзшие, побуревшие, потерявшие свою яркость кленовые листья.
«Пройдусь пешком, это полезно», – сказала себе Женя и опять вздохнула глубоко-глубоко и чему-то улыбнулась.
Он узнал ее сразу. Со спины. Не слыша ее голос. Просто увидел и узнал. Эту по-прежнему тонкую спину с острыми и беспомощными, как у ребенка, лопатками. Эту узкую, почти детскую, длинную шею с двумя выдающимися бугорками третьего и четвертого позвонков. Все тот же рыжеватый хвост на затылке. Теперь, правда, в нем было больше серебра, чем золота с медовым отливом. Длинные руки с узкими запястьями. И ноги – длинные, по-прежнему стройные и сильные, с гладкими, ровными, смуглыми икрами, как будто доставшиеся ей случайно от другого тела – тела спортсменки. Хотя она была совсем не спортивной, а даже неловкой, чуть нескладной, как бывают неловки и нескладны подростки.
Он обошел ее сбоку и увидел чуть вздернутый кончик носа, пухлую нижнюю губу, родинку на щеке и гладкий, высокий, чистый лоб. И конечно, очки. Теперь – узкие и тонкие, в легкой металлической оправе. Она откинула рукой легкую челку и вытерла ладонью лоб. Он оглядел ее всю – с головы до ног. Белая широкая майка с подмокшими кругами подмышек. Синие шорты по колено. Полотняная сумка через плечо. Узкие ремешки открытых шлепок. И круглые, розовые, почти детские пятки. Он помнил эти пятки. Всю жизнь помнил. Они были гладкие, почти шелковые. Пятки младенца. Как это ей удавалось? Непостижимо. Никаких педикюров – это понятно. Вечно возилась в саду – пионы, флоксы, георгины. А вот на тебе – такие пятки. Не пятки, а пя-точки.
Было жарко. Нестерпимо жарко, около тридцати в тени. Климат, как всегда, давал прикурить. Еще неделю назад москвичей изводили нудные затяжные дожди, и вот – на тебе, тридцать в тени уже третий день.
Она стояла у молочного прилавка и говорила о чем-то с бойкой девахой с наглыми глазами в белом переднике, продававшей творог. Деваха давала ей на пробу белые слоистые кусочки на вощеной бумаге. Она аккуратно и послушно слизывала предложенное, пару секунд перекатывала творог во рту, потом стояла замерев и качала головой. Деваха раздраженно пожимала плечами. Он подошел к ней сзади, осторожно взял за локоть и прошептал:
– Не у той берете, девушка. Не у той. Эта – точно аферистка. Вон, бабуля тихая, справа, третья в ряду. Та точно не обманет.
Она испуганно застыла, и он видел, как побледнела ее щека. Через долю секунды она обернулась и увидела его. Их лица оказались близко друг от друга – и у него тяжело и гулко забухало сердце.
– Ой, – почти пискнула она, – это ты? Господи, а я так испугалась. – Она поправила очки на переносице, снова отерла ладонью вспотевший лоб и пробормотала: – Господи, Андрюшка, ты! Сколько лет, сколько…
– …зим, – добавил он почти весело. Это ему удалось.
– Как ты, что ты, где ты? – говорила она быстро.
– Ну как так – на ходу, – остановил он ее и засмеялся: – Так дела не делаются.
– Ну, да, да, – сказала она смущенно. – Это верно, верно, как вот так, на ходу, неправильно это. Ты прав.
– Так пойдем поскорей отсюда, где-нибудь сядем наконец, что-нибудь выпьем, а, Тань? – Он взял ее под локоть и повел к выходу.
– Постой, а творог? Андрюш, я же не купила, а? – встревоженно проговорила она. – У меня же муж в больнице, как же я без творога?
– Танечка, – сказал он твердо и уверенно, – творог в такую жару на рынке покупать опасно для жизни. И потом, детка, творог надо делать самой. Самой, слышишь? Три литра молока и литр кефира, а, Тань? Это и чище и полезнее. Согласна? Ну пойдем, пойдем, Танечка. Все равно до больницы не довезешь, скиснет. Точно скиснет.
– Что же делать? – совсем растерялась она.
Они вышли на улицу. Их обдал жаром воздух раскаленного города.
– Ну, двинули, а, Тань? – спросил он и повел ее к автостоянке. – Ничего, сейчас кондей включим, придем в себя, да, Танечка?
Она остановилась, сняла очки и удивленно сказала ему:
– Ты что, Андрюша, со мной, как с ребенком, разговариваешь?! Или как с дурочкой?!
Теперь смутился он:
– Ну что ты, Тань! Что ты! Тебе показалось. Просто от жары мозги плавятся.
И подумал: «А норов-то остался. Никуда не делся норов!» И он увидел ее – прежнюю – мягкую, тихую, податливую, но если дело доходило до споров-разговоров, тут уж извините. Тверже скалы не было.
Они подошли к его машине, он звякнул брелком – двери открылись.
– Прошу вас, мадам! – Он шутовски наклонил голову и открыл ей дверь.
– Ничего себе, – покачала она головой, оглядывая его «Кайен». – Ничего себе, – повторила она. Нет, не восторженно, нет. Никакого восторга не было. Было удивление.
– Садись, садись, Танька, – сказал он, и они наконец уселись в машину.
Внутри был, естественно, Ташкент. Казалось, что черный «Кайен» вобрал в себя все это немыслимое солнце. Он включил кондиционер, и постепенно в салон вползла спасительная прохлада.
– Ну, куда, Тань? – спросил он, выворачивая руль.
Она пожала плечом.
– Тогда на мое усмотрение, да?
Она кивнула. Они выехали на Ленинградку.
– Знаю я тут одно неплохое местечко, – объяснил он ей. – Там точно прохладно, холодное пиво и хороший кофе.
Она опять кивнула. Всю недолгую дорогу оба молчали.
* * *
Они учились в одном классе двадцать лет назад. В старой, красного кирпича, школе. Самой школы уже нет. Нет, то есть, конечно, здание стоит. И часть густого вишневого сада осталась. Но в здании их школы, теперь отремонтированном, с белыми глазницами нелепых пластиковых окон, с новым мраморным крыльцом и охранником, находится издательство новомодного журнала, популярного у людей бизнеса.
Он пришел в эту школу в конце девятого класса. Его семья тогда получила две большие комнаты в коммуналке. Родителям и им, детям, ему и сестре, эти смежные комнаты показались раем. Еще бы! После барака в Люберцах!
Она сидела за последней партой у раскрытого окна. По всему классу, как снег, кружился, летел тополиный пух. Она без улыбки, изучающе посмотрела на него, и он пропал – сразу и, как оказалось, на всю жизнь. После уроков он вызвался проводить ее. Она жила в поселке художников в старом наследном доме. В семье все были художники: дед, бабка, отец, мать. Но корифеем, был, безусловно, дед.
Они дошли до ее калитки, и он увидел маленький бревенчатый дом в глубине пышного сада со съехавшим чуть влево крыльцом и огромными кустами сирени у низкой калитки. Колокольчики, белые и темно-сиреневые, почти фиолетовые, росли справа и слева от узкой дорожки из серой тротуарной плитки. Они стояли у калитки, и он, торопясь и сбиваясь, рассказывал ей о себе – о том, как завод дал им эти комнаты в кирпичном доме почти у метро, как здорово, что внизу «Детский мир», хотя он, конечно, вырос из этих прелестей, но сестра – младшая сестра – счастлива до небес. И матери радость – в соседнем доме «Диета» и гастроном, прозванный в народе «генеральским», потому что находится в ведомственном, от Минобороны, доме. И публика там проживает действительно солидная – военные в чинах и дамы в мехах.
Она молчала, изредка кивая, и смотрела на него с каким-то удивлением. В тот, первый, день она не пригласила его зайти. Он не обиделся, потому что был абсолютно счастлив. Теперь он не мог дождаться утра и бежал в школу – там была она. Мать удивлялась и радовалась – и за уроками парень сидит, и в школу как на праздник. Вечером, за ужином, она перехватила его блуждающий взгляд:
– Ох, сынок, а ты не влюбился, часом?
Он покраснел и мотнул головой:
– Ну что ты, мам!
Громко рассмеялась младшая сестра.
Каждый день после уроков они гуляли по два-три часа. Она всегда проходила мимо своего дома, бросала портфель через забор и кричала бабке, сидящей в плетеном кресле:
– Я гулять, ба! Не волнуйся!
Бабка молча и величественно кивала. Они ходили по тихим улочкам поселка, названным в честь русских художников, и Таня рассказывала ему о них, долго, подробно, терпеливо объясняя что-то незнакомое и неведомое ему до сих пор. А однажды пригласила его домой.
– Не волнуйся, дома только бабуля, родители в отъезде, – успокоила она его.
Они зашли в дом с низким, потемневшим от времени потолком, сели на кухне за стол, накрытый ярко вышитой восточной скатертью, и Таня налила в высокие и тонкие чашки холодный вишневый компот.