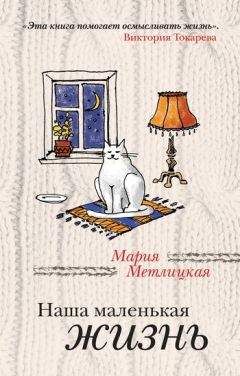Он провел рукой по скатерти.
– Сюзане, – объяснила Таня. – Это так называется. Дед привез ее из Ташкента – они там были в эвакуации.
Он осторожно взял в обе ладони тонкую чашку, рассматривая на ней странный, полустертый рисунок. Какой-то герб.
– Это совсем древняя, – объяснила Таня. – Еще родителей деда. Они были богачи, купцы первой гильдии. Но деда – старшего сына – прокляли и наследства лишили за то, что он стал художником. А должен был стать наследником дела. Одумались наконец, опомнились только перед смертью, в глубокой старости. Дед уже тогда был знаменит. Просили прощения. Он, конечно, простил. Но от наследства уже ничего не осталось – по всем уже прошла копытами и железным плугом революция.
Он удивился ее последним словам. В его семье пели песни о красном командире Щорсе и надевали красные атласные банты на лацкан в день Первомая.
Потом они пошли в ее комнату – она была совсем крошечной, – и он увидел низкий диван с потертыми бархатными подушками, старый, темный от времени. Письменный стол с зеленым сукном, на котором лежали ее учебники и тетради. И узкое, длинное зеркало в резной потрескавшейся раме – точно старинное. И конечно, везде картины, дедовы картины – ему показалось, что их невероятно много, но Таня сказала, что это всего лишь жалкие остатки, то, что уберегла и не отдала бабушка. А все основное – по музеям по всей стране. Или в частных коллекциях.
Таня рассказала ему, что своего великого деда она почти не помнит. Он умер, когда ей было четыре года. Помнит только его руки, крупные, сильные, и пальцы, темные от лака – рамы для своих картин он любил делать сам.
Особенно Андрею тогда понравился один женский портрет – худая, темноволосая девушка с печальными глазами сидит в глубоком кресле, нога за ногу, кутаясь в шаль.
– Бабушка, – кивнула Таня.
Он удивился, но смолчал. Эта тоненькая изящная девушка – ее бабка? Та самая, которая сидит в кресле на крыльце, полная, тяжелая, с опухшими ногами-тумбами?
В большой комнате – гостиной, как говорила Таня, – стояли этажерки с книгами и над круглым обеденным столом висел огромный розовый абажур с длинными шелковыми кистями. Вечерами они часто сидели в этой самой гостиной вдвоем на черном кожаном диване с высокой спинкой, и он все никак не решался ее поцеловать – хотя опыт конечно же был. Еще бы, такой красавец!
Невинность он потерял еще в четырнадцать лет в деревне, у материной родни. Первой его женщиной была соседка Нинка – крупная, крепкая, румяная деваха лет семнадцати. Все лето в сарае на сеновале бойкая Нинка вводила его в курс нового дела.
Но с Таней все было другое. Только месяца через три – в самом конце лета – он осмелился ее поцеловать. Теперь они только и делали что целовались – часами, до одури. У нее вспухали губы, а он, словно пьяный, шатаясь, медленно шел домой, в бессилии падал на кровать и мгновенно проваливался в тяжелый и вязкий сон.
В десятом классе им обоим было не до учебы. Мать психовала, что его загребут в армию.
– А что ей, твоей фифе, ей в казарму не идти, – злилась мать. А однажды, увидев его с Таней на улице, сказала ему печально как-то: – Не нашего поля эта ягода, сын. Не твоего. Зря силы тратишь. По себе надо искать. Ровню. – И с тяжелым вздохом провела по волосам, словно жалея.
Осенью Таня стала какой-то раздраженной, что ли. Быстро уставала и говорила ему:
– Иди, иди уже.
Гнала. А он обижался и не мог от нее оторваться. Новый год она встречала с родителями, строго сказав, что у них так заведено. А он так надеялся, что она придет к нему. Квартира была свободна – родители всегда уезжали встречать праздник к отцовой сестре во Владимир. Она пришла вечером второго. Они выпили шампанского, и она быстро захмелела и легла на диван, задремала, а он присел рядом и начал целовать ей руки – тонкие, с длинными пальцами, в цыпках от холодной воды. Она, не открывая глаз, обняла его за шею и подалась вперед.
Тогда у них все и случилось. Продолжение было всего еще несколько раз. Однажды у него на Первомай, тогда родители уехали к родне в деревню, и пару раз у нее, на зеленом бархатном диване. Она всегда сначала говорила «нет», а потом сама обвивала его шею руками и притягивала к себе. Он сходил с ума от любви. Любил весь мир и всех на свете. Таким счастливым, как в тот год, он больше никогда в жизни не был – ни когда родилась дочь, ни когда он построил дом – мечту всей жизни, ни когда купил себе первый джип, ни когда увидел в первый раз Париж. К весне Таня сказала, что видеться они теперь будут раз в неделю – иначе она завалит вступительные в институт. Куда он будет поступать и вообще его дальнейшая судьба ее интересовали мало. Она стала ходить на подготовительные курсы в Строгановку, а он вечерами околачивался возле училища и часами ждал ее. Она выходила возбужденная, с радостным, раскрасневшимся лицом, но, натыкаясь на него взглядом, почему-то мрачнела и замолкала. Он болтался по улицам, часами простаивал под ее окнами, чем безмерно ее раздражал. И конечно, ничего не делал. В августе он, естественно, завалил вступительные в МАИ, хотя поступить туда в ту пору было не так сложно. А Таня поступила в Строгановку, где был, как всегда, бешеный конкурс. Мать его жалела, а отец зло буркнул:
– Работать иди. На завод, чтоб жизнь малиной не казалась.
Восемнадцать ему исполнялось в апреле, а в мае его должны были забрать в армию. Он не боялся, а даже, наоборот, ждал этого, как ждут укрытия и спасения. В тот год, на первом курсе, у Тани образовалась своя компания – по интересам. Они часто собирались у нее, конечно же у нее, ведь она жила рядом с училищем. Он пару раз приходил к ней после работы и заставал их – веселых, шумных острословов у нее в «девичьей» – так называла бабка Танину комнату. Он садился в углу – мрачный, угрюмый, ревновал ее страшно и ко всем подряд. А она, веселая, раскрасневшаяся, бегала по дому, приносила из кухни чай на подносе, пекла бесконечные блины – эта хивра была вечно голодной. На него она не обращала никакого внимания. Тогда он заметил одного очкарика – невысокого, тощего, с острыми коленками, в клетчатой ковбойке, индийских джинсах и сандалиях. Он особенно активно вился возле Тани. Однажды Андрей услышал, как тот спрашивает у нее:
– Кто этот тип, ну, что приходит и молчит?
– Так, воздыхатель, – кокетливо хихикнула она.
На этого «воздыхателя» он обиделся тогда смертельно. Услышал ту небрежность, с которой она это произнесла. А однажды увидел, как этот очкарик обнимает Таню в темном коридорчике, ведущем из кухни в комнату. Он тогда напился и пришел к ней. В дом она его не пустила. Стояли на крыльце.
– С этим скрутилась, с очкастым, – зло твердил он. – Он же через три года плешивым будет! Убить его, что ли?
Она посмотрела на него и бросила:
– Тише, все спят. Уйди, Андрей, сколько можно. Сил уже на тебя никаких нет.
Он тогда схватил ее за плечи и затряс.
– Ты что, ты что, Танька, все забыла? Забыла? Как ты могла так быстро все забыть, а, Тань? – шептал он, размазывая по щекам злые горючие слезы.
– Уйди, пожалуйста, – уже жалобно просила она. – Ну уйди, Андрюша.
Он притянул ее к себе. Она вырвалась. Он развернулся и пошел к калитке. Жалобно звякнул колокольчик.
Назавтра он пошел в военкомат и попросил, чтобы его забрали прямо сейчас. Пожилой военком покачал головой и сказал ему грустно:
– Сиди, парень, до мая. Не имею я таких прав. Понимаешь? – А потом добавил: – От себя убежать хочешь? Это правильно. Армия для этого самое милое дело. Это я по себе знаю.
Забрили его в мае. Тогда он ждал этого мая как своего единственного спасения. На проводах мать сказала ему:
– Все пройдет, сынок, все пройдет.
– Ага, – ответил он. – Как с белых яблонь дым.
За два года она не прислала ему ни одного письма. Мать как-то написала: «Видела эту твою Таньку. Страшная, тощая, бледная. И что ты в ней, сынок, нашел?»
Он вернулся крепким, накачанным и, как ему казалось, совершенно выздоровевшим.
Но в Москве все опять нахлынуло, завертело. Разболелось. Он просто физически чувствовал эту болячку на сердце. Она саднила, саднила. Не меньше прежнего. В институт он поступать не стал – было лень. Хотя тогда, после армии, все двери были для него открыты. Пошел к отцу на завод. Там, на заводе, подружился с веселым парнем Гошей. Тот его позвал в свою компашку.
– Такие девочки будут, закачаешься, – весело пообещал он.
Собирались у Гошиной девушки Лели. Та жила одна в крошечной однушке на «Парке культуры». Вечером пошли в парк пить пиво. Было и вправду весело. Там он и познакомился с Зинкой, Лелиной подругой. Зинку все звали Софи Лорен. Она и вправду была похожа на итальянскую звезду – тонкая талия, роскошные бюст и бедра. Гоша сказал, что эта Зинка – баба будь здоров. Жила с каким-то богатым грузином два года, тот упаковал ее под завязочку, по полной программе. Даже тачку ей купил, «копейку». Но она и сама, эта Зинка, баба будьте-нате, с головой. В универмаге «Москва» старший продавец. В отделе мехов. Бабки делает – будь любезен.