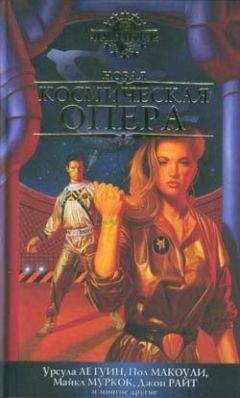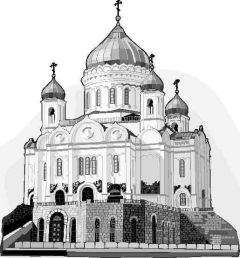– …всякое ныне житейское отложим попечение.
И пока пел маленький хор, пока ручьем самородного серебра звенел, еще и еще раз выпевая два последних слова, голос Ани Кудиновой, царские врата открылись, стал виден Николай, мерно обмахивающий кадилом престол и жертвенник, и застывший возле престола о. Александр.
Пламя свечей поблекло. Длинные полосы света наискось тянулись из окон к полу, оставляя на нем широкие яркие пятна. Алая струйка на лбу томящегося в темнице Христа налилась тревожным цветом живой крови. Святитель же Николай, в полумраке зимнего утра казавшийся глубоким стариком, теперь заметно помолодел и строгим, но добрым взглядом словно бы высматривал в храме какую-нибудь невезучую девушку, которой необходима его чудесная помощь. На Великом входе первым, с высоко поднятым дискосом показался на солее диакон; о. Александр, чуть отставая, медленно ступал вслед за ним, держа перед собой Чашу. Луч солнца упал на нее, и на мгновение она вспыхнула ослепительным золотым блеском.
– Великого Господина и Отца нашего Тихона, Святейшего Патриарха Московского… – во всю глотку заревел младший Боголюбов.
Переждав, старший сказал нараспев, с неподдельным теплым чувством:
– Всех вас, православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
– Есть нечто, – сказал о. Петр, когда отзвучала «Херувимская» и – вслед за ней – последняя аллилуиа, – важнее культуры. Погодите, – и своей рукой он мягко сжал руку Василия Андреевича. – Я, может быть, неточно выразился. Не важнее, нет. Существеннее? Глубже? Первичнее? Но в этом случае всякое слово заставляет нас страдать от его очевидной недостаточности. Скажем так: есть корень, из которого все растет, и культура в том числе. И корень этот – в ощущении нашей бесконечной, до рождения и за смертью, связи с Творцом. Вы говорите – культура. Да, конечно… А между тем сейчас, сию минуту, здесь, в алтаре, и в алтарях сотен других храмов священники молитвами и священнодействиями как бы воссоздают событие мирового, вселенского значения: погребение Христа. Каждое действие тут – символ, каждое слово – высочайшая поэзия, а все вместе – несравненная красота. Яко Живоносец, – с улыбкой произнес он, и голосом своим, и выражением просиявшего лица словно приглашая бывшего директора по-братски разделить с ним трапезу духовную, вечерю скорби и радости, щедрый пир любви, веры и надежды, – яко рая краснейший, воистину и чертога всякого царского показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения. И это все, – о. Петр помрачнел, – унизить. Втоптать в грязь. Уничтожить. Понимаете ли вы, что удар нанесен рукой беспощадно-меткой, рукой, которой истинно водит сам сатана?! Разрушение культуры, – помедлив, сказал он, – мрак. Разрушение Храма – смерть.
– Может быть, может быть, – с лихорадочной поспешностью проговорил Василий Андреевич и, волнуясь, то комкал шапку, то снова проводил ладонью по небритому лицу. – Я ведь вот почему решил прийти… О личной моей жизни рассказывать я вовсе не собирался, хотя, я чувствую, вам приоткрыл, и, кажется, тут, – указал он на грудь, – чуть отлегло. Действительно: я хочу узнать Бога! Я в последнее время читаю много… Я молиться пробую, молитв совершенно не зная…
– Как умеете – так пока и молитесь, – вставил о. Петр в быструю речь Ермолаева.
– «Отче наш», правда, я с детства помню… Но я чувствую, что мне все время что-то или даже кто-то, – вымолвив это, Василий Андреевич примолк, бросил на о. Петра испытующий взгляд и, решившись, договорил, – мешает. Будто кто-то, посмеиваясь, мне вполне резонно толкует, что взрослому образованному человеку вроде меня должны быть самому смешны эти жалкие попытки. Кому ты молишься, тот, если и существовал в убогом воображении грубой толпы, то теперь окончательно упразднен. И мир как лежал во зле, так и лежит и будет лежать до скончания века. И я тогда начинаю остывать. Я начинаю думать: а ведь это правда. Пусть безнадежная, безрадостная, жуткая – но правда! Теперь только и слышишь повсюду эту ложь отвратительную, только и видишь эти рожи бессмысленные, но с печатью торжествующего превосходства, только и ощущаешь везде всеобщую дрожь – как бы не отобрали, не арестовали, не убили, и в конце концов этой подлой дрожью трясешься и сам. Не-ет, – покачал головой Василий Андреевич, – семипудовой купчихи им будет мало.
– Вы о чем?
– А помните, может быть, – мечта черта у Ивана Карамазова: воплотиться в семипудовую купчиху. Мало, мало им будет купчихи! Им вся Россия нужна. В нее залезть – в душу, плоть, в березу, в речку нашу Покшу – и все отравить. А ты перед ними бессилен. В самом деле: что я могу?! Взять винтовку и этого Ваньку Смирнова пристрелить как бешеного пса? У меня рука не поднимется убить. А им человека прикончить… Короче, – оборвал себя Ермолаев и заговорил с подчеркнутой сухостью. – Не сочтите экзальтацией, игрой нервов, вызванной обстоятельствами как очень личными, так и сугубо общественными, и тем более помрачением рассудка… я в здравом уме и памяти абсолютно твердой… но я готов поверить, что мы либо накануне прихода Антихриста, либо Он уже с нами. Здесь, – уточнил Василий Андреевич. – В Сотникове. В России.
– О предложенных Честных Дарех Господу помолимся, – раздался с амвона густой рык младшенького.
– Господи, помилуй, – тихо пропел в ответ хор.
– О спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений, – поглядывая в служебник, в котором был у него заложен листок с молитвой, Поместным собором включенной в просительную ектенью, продолжал Николай.
«За год не выучил, – с неприязнью подумал о. Петр. – Все некогда… Да и зачем ему?»
– Вразуми и укрепи всех, иже во власти суть, и возглаголи в них благая о Церкви Твоей и всех людех Твоих, – старался брат-диакон, должно быть, надеясь, что старший его побранит, но христианской и братской любви ради помилует.
– Подай, Господи, – от всего сердца вздохнули певчие.
– И вы полагаете, что Ваньку Смирнова и его товарищей по власти можно вразумить? – не без насмешки спросил Василий Андреевич.
Отец Петр поправил и без того устойчиво стоявший аналой.
– Нам с вами – вряд ли. Но молитва не к нам обращена – к Богу. Ему же все возможно… Был яростный гонитель Савл – стал апостол народов Павел; был Клавдий, римский трибун, которому по долгу службы надо было казнить святого Хрисанфа, – а стал мучеником Христа ради и пошел на смерть со своими сыновьями. Был… Ах, Василий Андреевич, милый вы мой, дорогой человек, подобным свидетельствам воистину нет числа. А мы разве другие люди? Не того же Бога дети? Не по образу и подобию Отца нашего сотворены? Он позовет – и разве мы не пойдем к Нему?
– Но ведь не зовет! – с болью воскликнул Ермолаев.
– Бросьте! – немедля и резко ответил ему о. Петр. – Он каждый день, каждый час, каждый миг вас зовет, но вы, будто броней, закрылись скептицизмом… вполне, кстати, ничтожным… и травите себе душу сетованием, что вы у Господа не сын, а пасынок. Доверяйте Богу! Ему всего лишь и нужно ваше доверие, но полное, без всяких недомолвок, задних мыслей и тем более усмешек. Доверьтесь Богу – и вы непременно встретитесь с Ним. Я не знаю, как это произойдет – случится ли с вами чудо мгновенного озарения, и вы, подобно апостолу, воскликните от полноты сердца: Господь мой и Бог мой! либо встреча с Ним будет итогом вашей долгой и трудной борьбы с собственным – не скажу: неверием, а недоверием – и тогда вслед другому апостолу вы молвите с надеждой, наконец-то преодолевшей ваш разум: верую, Господи, помоги моему неверию!
Мне, Господи, помоги. Силой Духа Твоего Святого сделай слово мое молотом, дробящим сомнения. Пламенем, возрождающим душу. Водой нового крещения для смущенного жизнью раба Твоего. Пастырь, убереги овцу от волков, вокруг ходящих.
Сказать: бытие Божие вне нашего сомнения, ему неподвластно, им неразрушаемо. Мы тварь, изваянная Творцом, но испорченная человеком. Бог мучается грехами нашими и зовет к Себе всех блудных детей Своих и тебя зовет. Еще сказать: Авраам Господу поверил и, не зная, куда идет, двинулся в путь далекий, к земле обетованной, которую Бог указал ему. Авраам поверил – и неплодная Сарра уже в преклонных годах зачала от него и родила сына-первенца. Авраам поверил – и готов был принести в жертву возлюбленное чадо свое и с ним вместе упование на обещанное Богом умножение потомства. Помните ли вы, как это было? Помните ли отца, взявшего огонь и нож и на бесхитростный вопрос сына: а где же агнец для всесожжения? – ответившего с потаенной мукой: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой»? Помните ли покорного отцу и кроткого Исаака, безропотно давшего себя связать и молча улегшегося на жертвенник с приготовленными дровами? Руку Авраама с ножом, простертую над Исааком, помните? Со слезами на глазах я перечитываю всегда это место. И думаю: а был бы у меня сынок, о котором пока понапрасну мечтаем мы с Богом мне данной женой, – смог бы я уподобиться Аврааму? Само собой, ни сном ни духом при этом не ведая, что в последний миг посланный Господом Ангел остановит мою занесенную для смертельного удара руку. Страшный вопрос. Душа трепещет в испуге и замирает, оцепенев. Подлый рассудок мой мне шепчет, что Авраамово жертвоприношение возможно лишь для человека, не только ощущающего Бога как несомненную реальность – в конце концов, хотя бы проблески подобного чувства случаются и у нас, грешных, – но, главное, относящегося к Творцу с простотой, доверчивостью и требовательностью младенца. И если б вы знали, милый вы мой, как в такие минуты одолевает соблазн успокоить себя признанием собственной слабости и навсегда оставить без ответа страшный вопрос! Но отвечать – надо. Бог нас спрашивает. И что нам сказать Ему – мне, вам, всем нам, семени Авраамовому, умножившемуся, словно песок земной? Только один у нас есть ответ: да будет воля Твоя, как там, на небесах, так и здесь, на земле.