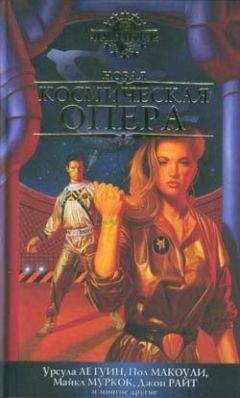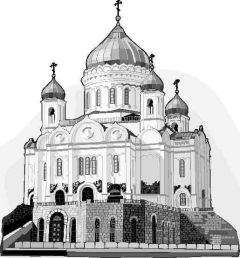Отец Петр стиснул зубы. «Скажу Александру – в шею его из алтаря и немедля». Но с клироса прозвучал «аминь», и о. Александр, тихо молвив: «Подобне и Чашу по вечери, глаголя», проговорил-пропел затем с великой радостью и затаенной печалью:
– Пийте от нея вси, Сия есть кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многи изливаемая во оставление грехов.
Господи! Прости меня. Но в радости не могу отрешиться от печали; в умилении – от скорби; и в ликовании – от плача. Давший нам источник жизни вечной, какой ценой оплатил Ты его! Позвавший нас на Трапезу Свою, взошел на Голгофу. Принесший слово истины, претерпел распятие. Воскресший, безмолвно страдаешь от мерзости грехов наших.
– Отец Александр, – громко и недовольно проговорил вдруг диакон. – Ты не слышал, что ли: «аминь» пропели. Молись давай дальше.
– Отец Александр! – сдавленным шепотом тотчас обратился средний брат к старшему. – Дьякон более в алтаре находиться не может. Это наш с тобой грех, что мы его, вчера пившего и жравшего и Бог его знает чем еще занимавшегося, допустили к священнодействию!
– Петя! Брат! Отец Петр! – прижав правую руку с орарем к груди, тоже шепотом воззвал Николай. – Ведь Христос по-среде нас, а ты меня позоришь. За что?!
– Христа не марай, – тихим страшным голосом произнес о. Петр, и младшенький, поспешно отступив от него, встал под защиту старшего:
– Отец Александр! Саша! Ты ему скажи… Он убить меня готов! Я, может, тебе что-то не так сказал, ты меня прости, Христа ради! А он спятил, должно быть. Как волк, на меня кидается! – Он совсем близко, почти вплотную приблизился к Александру, и оба они одинаковыми, серыми, материнскими глазами смотрели на брата: один – с испугом, другой – с мучительным недоумением.
И нос у них обоих материнский, прямой, и верхняя губа, как у мамы-покойницы была, – с изломом посередине.
– Отец Петр… отец дьякон, – с усилием проговорил о. Александр и вздрагивающей рукой прикоснулся к серебряной крышке лежащего на престоле Евангелия. – Сейчас возношение… Сейчас ему, – слабо кивнул он на стоявшего по правую его руку Николая, – Дары возносить…
Боже мой, зачем они меня опустошили?
Ожившее сердце вырвали из груди.
Я, может быть, к Небу приближался, а меня свергли на землю.
Молитву мою распяли.
От горнего места прямо на него смотрел Христос, и в ясном Его взоре о. Александру вдруг почудилось выражение, с которым Он, скорее всего, глядел на фарисеев, называя их гробами повапленными, снаружи имеющими вид красивый, а внутри полными мертвых костей и прочей нечистоты; или даже на торговцев – перед тем, как взять в руки бич и выгнать их из храма.
Взгляд Спасителя о чем-то напоминал ему – а о чем именно, он сообразить сейчас не мог, да и не хотел. Он только знал, что, если вспомнит, то в нем уже и следа не останется от того дивного ощущения Богоприсутствия, которое крепло в душе от молитвы к молитве. Он попытался забыть недостойную перепалку братьев и, закрыв глаза, тихо произнес:
– Помиающе убо спасительную сию заповедь и вся, яже о нас бывшая…
– Отец Александр! – требовательно сказал о. Петр. – Ты либо дьякона из алтаря прогонишь, либо я сам уйду.
– Вот он всегда так! – быстро и горячо рядом со старшим зашептал младшенький. – Ему лишь бы на своем настоять, себя показать. А другие для него…
Волна исходящего от Николая отвратительного запаха все напомнила. С тоской на сердце о. Александр брезгливо отстранился. Мерзость. Он вчера с комсомольцами гулял, Нина сказала и велела Петру передать. Отчего Петру? Я этого храма настоятель. Она смеялась: «Ты, ты».
– Он себя столпом православия воображает, а он просто столб телеграфный и ничего больше, – продолжал нашептывать младшенький, не замечая, как бледнеет и покрывается испариной лицо о. Александра.
Григорий Федорович Лаптев тем временем показался в северных дверях алтаря с вопросом не только укоризненным, но, пожалуй, и возмущенным:
– Отцы, вы никак задремали?!
– Уходи, – негромко сказал младшему брату о. Александр.
Чутким ухом Григорий Федорович это слово уловил, принял на свой счет, и на маленьком, сморщенном, с белыми кустиками бровей его личике попеременно отразились сначала недоумение, а затем горчайшая обида. И с этой обидой он воскликнул:
– Отец Александр!
– Я не вам, – ровным голосом проговорил о. Александр и, не глядя на брата-диакона, повторил: – Уходи. Молись в храме.
Христос не спускал с него Своего взора.
– Ты не можешь… – неуверенно сказал Николай, но потом прищурился и посмотрел на старшего брата с вызовом. – Я сан священный имею! Ты разве епископ, чтоб меня гнать?! Ну да, я нынче без приготовления, так случилось… Чего тут страшного? Священники пьяные служат, и то ничего. А я что – пьяный, что ли? Эко дело – вчера выпил маленько! Нельзя мне Святые Дары возносить – не буду. Он, – младшенький указал на Петра, – пусть возносит. Ради Бога! И причащаться не буду. И Чашу не буду выносить. Но гнать меня из алтаря ты прав не имеешь!
– Не я тебя гоню, брат, – кротко молвил о. Александр.
– А кто? Он? – опять указал Николай на о. Петра. – А ты его не слушай. Ты в храме настоятель, а не он.
– Не я тебя гоню, – повторил о. Александр. – И не отец Петр.
– А кто ж тогда?!
– Неужто не понимаешь? – с болью спросил у младшего брата старший.
– А-а, – усмехаясь, протянул Николай. – Ты вот о чем… Ты мне про Бога… Про Него, – он кивнул в сторону горнего места, откуда пристально смотрел на братьев Христос. – Зря. Он себе в Небесах живет не тужит вместе с Отцом и Святым Духом, а мы здесь… – в лад Ваньке Смирнову Николай чуть не сказал: «Народ дурим», но в тот самый миг, когда слова уже готовы были слететь с его губ, вдруг оробел и, запнувшись, проговорил: —…устраиваемся кое-как.
– Ты что… ты о Господе так?! Коля! – умоляюще вскрикнул о. Александр и схватил брата за рукав стихаря. – У тебя, может, случилось что? Ты нам скажи, братьям… отцу скажи. Ступай, Коленька, помолись… Богом тебя заклинаю: не губи себя! Царства небесного себя не лишай! Ты же с Церковью повенчан! Ты вкруг престола трижды обошел! Ты спасению служить обещался!
– Оставь его, – глухо сказал от жертвенника о. Петр. – Пусть идет устраивается, а мы тут Богу будем служить. Иди, иди! – Он властно указал младшенькому на северные двери алтаря.
– А ты не приказывай! – яростным шепотом ответил ему Николай.
Опять стало душно, и стихарь неудобоносимым бременем лег на плечи. Уже не жар семисвечника – злоба мутила голову. Будто псы, накинулись. Я встал еле жив и к ним побежал, чтобы сообщить… Они без меня и служить толком не могут! Из Петра дьякон, как из меня королева английская. Ни слуха ни голоса. И Сашка козликом. Я встал больной и по лютому холоду в храм приплелся – предупредить. Дьявол бритый обещал мне язык вместе с бородой отрезать, а я пришел. Он запросто. Меня возьмет, как агнца, и кончена жизнь. Не в первый ему раз, видать, такие штуки проделывать. Мне бы, дураку, дома под одеялом теплым лежать. Я постель ради них оставил и страшной угрозой пренебрег, а они мне говорят, что Бог-де меня из алтаря гонит. Ну да. Я хоть в семье и младший, но не ребенок же я, чтобы меня Богом пугать! Двадцать два года на белом свете прожил. Какой Бог?! Где Он?! Вы мне Его предъявите доподлинно, а потом пугайте. Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». Знаю я это все. Власть Бога отменила, и Он ей в ответ не пикнул, всемогущий. А что бы Ему град Сотников, к примеру, всей России в назидание прямым ходом в тартар не отправить? А?! Кишка у Бога тонкая. Угодников Его, праведников, блаженных и приснопамятных, преподобных, святителей и заступников потрошат за милую душу, а Он на небе своем молчком сидит и тряпицей слезы утирает.
Симеона завтра.
И кости его увезут, если они в домовине еще не сгнили.
Николай засмеялся.
– Уйти? – спросил он у братьев-священников.
– И поживей, – ответил о. Петр.
– Уйду, – с жестоким удовольствием согласился младшенький. – Нате.
И с выражением мстительной радости на вспыхнувшем и похорошевшем лице он в два счета развязал и сбросил на пол поручи и с силой рванул орарь. В тишине слышен был сухой треск лопнувших ниток и резкий звук, с которым упала на престол слетевшая с левого плеча диакона пуговица. Стянув через голову стихарь и схватив полушубок, Николай откинул завесу и одним толчком распахнул царские врата. Малое стадо шатнулось, пораженное как диким видом отца диакона, так и его со всех точек зрения неканоническим выходом к православному народу. Мать Агния ахнула и перекрестилась. В два быстрых шага одолев солею и уже сойдя на ступеньки, Николай вдруг вернулся к царским вратам и отчеканил в алтарь:
– А в Шатрове-то завтра до Симеона доберутся! И его кости из монастыря – тю-тю!
Отец Петр молча закрыл царские врата и задернул завесу.
– Господи, помилуй! – услышали сначала в храме не имеющий отношения к последованию литургии громкий вздох о. Александра, а несколько погодя и его возглас, означающий, что трапеза духовная будет продолжена: – Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.