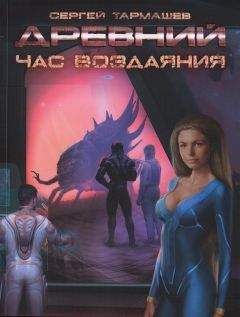Она потянулась ко мне и тихо и нежно поцеловала в губы. Затем повернулась и пошла прочь по аллее меж торчащих метел сиротливых дерев, как — то немного переваливаясь, точно простолюдинка. Я стоял и глядел ей вслед, машинально замечая, как она была одета — черное шелковое платье, черная шляпа с черными же страусовыми перьями… Черная птица на фоне желтой, палой листвы и серой дорожки бульвара. Я проводил ее глазами еще немного, потом круто повернулся и зашагал в противоположную сторону — к трактиру.
* * *
Еще в первый год своего брака, я, говоря просто — начал пить. Вторая книжка моих стихов, выйдя, принесла мне уже настоящую славу, меня стали приглашать во многие литературные салоны и кружки, один из которых сыграл в моей последующей жизни, возможно, решающую роль.
Увлекались богоискательством, очень кстати пришлись мои «озарения» о грядущей «Жене, облеченной в Солнце», которая, как — то смешавшись с идеей вечной женственности, а заодно и с Нею — Любовью, понимаемой аллегорически, была названа Прекрасной Дамой — и это закрепилось настолько, что поневоле вошло в название и моей следующей книги.
Лица, бледные от пудры и кокаина; гнусавые от него же голоса рассуждали о «мистических зорях», «символизме», об «интеллигенции и народе», а также прочих предметах — дорогих мне — но в покрытых помадой, черных, будто от запекшейся крови, устах отзывавшихся шарлатанством; впрочем, меня величали «первым в стране поэтом», а глядели восхищенно и завистливо. Весь этот мишурный шорох, хотя с одной стороны льстил моему самолюбию, а главное — давал возможность хоть на несколько часов прогнать мысль о своем жизненном положении, терзавшую меня изнутри, как терзает крыса внутренности приговоренного к древней восточной казни, с другой — наводил на меня неясную мне самому тоску.
Хозяином салона — замечательным поэтом и мыслителем, с которым у меня, впрочем, были большие литературные разногласия, поддерживался — со всеми вытекающими последствиями — культ Диониса; редко, когда я возвращался от него раньше утра, с трудом, шатаясь от усталости и хмеля и поминутно хватаясь за холодные грязные стены, чтобы не упасть на скользких нечищеных тротуарах. Утонченно — порочная эстетика пронизывала вечера, проводимые среди этих безусловно образованных и талантливых людей, властителей умов и душ тогдашней интеллигенции; уже была у меня там пара мимолетных, однако вполне вещественных увлечений, о которых вспоминал я, впрочем, без малейшего стыда или раскаянья. Мне — единственному — было доподлинно известно, что всему наступает теперь неизбежный конец.
Ночные эти собрания происходили в совершенно особенной постройки квартире, известной всему городу, как «Башня» — действительно круглой башней возвышавшейся довольно высоко над улицею. Из нее был ход на крышу, где в погожие ночи иногда среди ржавых труб и перилец собиралось самое утонченное общество — включая дам: на воздухе, чтобы отдышаться от смешанной атмосферы табака, вина, французских духов, кокаина, чуть слышного запаха женской (и мужской) похоти, лимонной цедры, горящих в камине дров и также чуть заметного — но только и исключительно мне — запаха тлена, который, как я понимал, рано или поздно станет там главным и затем — единственным.
В одну из таких ночей — светлых, как все северные ночи — было предложено мне прочесть там, для экзотики — на крыше, свое только что написанное стихотворение. Дамы — все в белых и светло — кремовых платьях — в честь белых ночей: всякого рода символизм соблюдался и в деталях — скользя и оступаясь на ржавых ступеньках, ахая (чаще — притворно) и опираясь на руку галантных, хотя уже изрядно побледневших от хмеля кавалеров, заняли свои места — страшно неудобные; однако это лишь придавало всему предприятию романтизма. Я отошел чуть дальше и встал на крошечной площадке, нависшей над самой улицей — далеко внизу плелись, с высоты казавшиеся крошечными, запоздалые обыватели, пробежала совсем уж чуть видимая собака, прошествовал городовой. Голова у меня закружилась немного: я также был изрядно пьян и, чтобы устоять на ненадежной опоре, которую выбрал себе, отвернулся и взялся за какую — то ржавую трубу — она была покрыта ночной моросью и холодна, как лед. Утвердившись таким образом на своей площадке, я оглядел собравшуюся передо мною «публику».
Среди кремовых и белых платьев собравшихся дам (мужчины галантно заняли места дальше, примостившись на разнообразно торчащих трубах и башенках, где в сизом ночном сумраке стали похожи на чертей), среди этого безусловно пышного и прекрасного цветника, в котором не один уже бутон был наедине раскрыт мною, чтобы насладиться его ароматом, где — то ближе к краю, к тени — мне вдруг показалось, я вижу будто случайно сюда попавшую знакомую фигуру в черном шелковом платье, прихотливо ласкающем белые плечи, в вуали, опущенной на лицо, осеняемое пышными черными перьями шляпы.
Я как — то сразу понял, что это не пьяная галлюцинация, не призрак — бог весть, каким путем пришла она сюда, возможно, чтобы попрощаться теперь уже навсегда. Сердце мое вспыхнуло, и, глядя на нее, я начал читать — в обычной своей ровной, бесстрастной манере — однако чувство, владевшее мною, вероятно, было столь сильно, что невольно через скрытые интонации передалось слушающим — все затаили дыхание и пока я не закончил, глядели на меня как околдованные, как верующие глядят на проповедника, возвещающего им символ новой — истинной — веры. Я читал — о ней — какой я встретил ее, какой она была, когда я знал ее так хорошо, а она сидела здесь, предо мною — какая она была теперь, сидела в кругу восхищенных и ничего не понимающих слушателей, невидимая для них, как всегда бывает невидима публика сама для себя; мы смотрели друг на друга — я знал, без сомнения, что глаза ее смотрят на меня из — за черной густой вуали тепло и печально.
Последние мои слова прозвучали как четыре удара колокола, после них наступила тишина, в которой был слышен лишь далекий собачий лай и слабый скрежет колеблемого ветром ржавого кровельного листа; затем раздалась овация — не бешеная: общество было слишком узко — но до чрезвычайности горячая и лестная моему самолюбию. Все стали подыматься и тем же порядком спускаться вниз — в гостиную; я чуть задержался: собравшиеся были уже на местах, уже были налиты новые бокалы — меня ждал триумф. «In vino veritas!» — вскричал хозяин, все снова зааплодировали; пили еще несколько раз, говорили пьяные, но искренние и очень приятные мне — также совершенно уже пьяному — комплименты, зеленоокая и рыжая светская львица, владелица другого известнейшего литературного салона, сама одаренная поэтесса, подошла ко мне, шепнула: «Гений!» и на виду у всех сочно поцеловала в губы; все снова зааплодировали.
Затем мужчины стали таинственно перешептываться, и открылось, что затевается продолжение веселья — но уже в обществе дам менее утонченных, зато более резвых и непритязательных. Меня уже тянули за сюртук, но во всей этой кутерьме я все — таки, почти не отдавая себе в этом отчета, искал глазами черное шелковое платье, вуаль… Я заметил их, только когда почти совсем собрались уж ехать — я подошел, огни прыгали у меня перед глазами, однако я изо всех сил старался держаться твердо. «Лили?» — позвал я. «Мы разве представлены?» — ответила мне незнакомка. «Нет… Простите мою дерзость» — «Ничего» — «Но вам хотя бы понравилось?» — «То, что вы читали?» — «Да» — «Недурно. Это ваши стихи?» — «Мои» — ответил я и, извинившись, бросился догонять компанию (в которой к своему изумлению увидел двух дам — мало уже, впрочем, что понимавших) — направлявшуюся в бордель.
Спустились на улицу. Отсюда, снизу, «Башня» казалась огромной, и вершина ее тонула в уже нахлынувшей на город мгле. Пока искали извозчика — долго, плохо соображая, что для этого нужно делать — я поискал глазами ту площадку, на которой всего час назад чувствовал себя в центре общего восхищенного внимания. Мне показалось, я увидел ее, и показалось — кто — то, держась рукой за выступающую трубу, стоит на ней и смотрит на меня — в таком же, как и у меня, длинном темном пальто с барашковым воротником… Но это конечно была пьяная иллюзия. Подъехал извозчик и вскоре мы уже мчались во тьму.
* * *
Несколько последующих лет прошли следующим образом — известность моя и «вес» в литературной жизни росли; просвещенные общества — с одной стороны, разрушенная, хотя внешне благопристойная домашняя жизнь — с другой, а рестораны и бордели — с третьей — определили мое окончательное отпадение от небесной глубины, зорь, чаянья казавшегося таким близким прихода и воцарения вечной женственности, от братской любви ко всяким малым тварям и стихиям, наполняющим это поднебесное пространство — к брусчатке городских площадей, грязи и слякоти скоротечной осени и студеному ветру казавшейся бесконечной зимы, с ее оснеженными горбатыми мостиками через замерзшие каналы, фабричными огнями, подворотнями сомнительных переулков, где женственность — любую, какую хочешь — можно было просто купить за деньги, если не все они еще оставлены в трактире или кабаке.