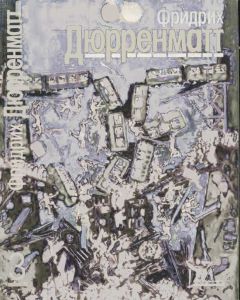Так начался скандал.
Хэррен был человеком действия, честолюбивым, а потому с самого начала проявил неуемную поспешность. Ему удалось всего за несколько минут не только поднять по тревоге всю полицию, но и встревожить все население, поскольку он пропихнул на радио, перед программой новостей в семь тридцать, экстренное сообщение кантональной полиции. Буча поднялась страшная. Вилла Колера оказалась пустой (Колер был вдовец, его дочь, стюардесса компании «Свиссэр», находилась в полете, кухарка ушла в кино). Можно было заподозрить попытку скрыться. Патрульные машины прочесывали город, пограничники были предупреждены. Интерпол поставлен в известность. С точки зрения чисто технической это заслуживало высокой похвалы, вот только упускалась возможность, которую предвидел начальник полиции: разыскивали человека, и не думавшего скрываться. Несчастье уже произошло, когда в начале девятого из аэропорта поступило сообщение, что Колер проводил до самолета одного английского министра, потом преспокойно уселся в свой «роллс-ройс» и приказал везти себя обратно в город. Тяжелей других пострадал на этом деле федеральный прокурор. Успокоенный безупречным функционированием могучего государственного механизма, еще торжествуя свою победу над треклятым начальником, он как раз изготовился слушать увертюру Моцарта к «Похищению из сераля» и в предвкушении удовольствия уже погладил аккуратную седую бородку и откинулся в кресле, а Мондшайн уже поднял дирижерскую палочку, когда по проходу большого концертного зала в сопровождении одной из самых богатых и самых простодушных вдов нашего города, мимо заполненных слушателями рядов проследовал к первым рядам разыскиваемый полицией с применением новейших технических средств доктор h.c., спокойный и уверенный, как обычно, с невинным выражением лица, будто ровным счетом ничего не случилось. Доктор h.c. занял место подле Йеммерлина и даже потряс остолбеневшему прокурору руку. Возбуждение, шепот и — увы! — хихиканье трудно было не заметить, увертюра явно не удалась, поскольку и оркестранты прекрасно видели все происходящее, один гобоист даже привстал от любопытства, Мондшайну пришлось начинать дважды, прокурор же пребывал в таком смятении, что сидел будто окаменевший не только во время увертюры, но и во время последовавшего за ней Второго фортепианного концерта Иоганнеса Брамса. Правда, он сумел оценить ситуацию к тому времени, когда начал свою партию пианист, но прерывать Брамса не рискнул, слишком велик был его пиетет перед культурой, он страдал от сознания, что надо бы вмешаться, но теперь было слишком поздно, приходилось ждать антракта. Зато в антракте он начал действовать, протиснулся сквозь толпу, с любопытством обступившую кантонального советника, стремглав помчался к автоматам, принужден был вернуться и попросить у гардеробщицы мелочь, позвонил в полицейское управление, связался с Хэрреном и организовал сбор всех частей. Меж тем Колер разыгрывал святую невинность, он отправился в бар, где угощал вдову шампанским, этому подлецу вдобавок до того везло, что даже второе отделение концерта началось за несколько секунд до прибытия полиции. Вот и пришлось Йеммерлину вместе с Хэрреном торчать перед закрытыми дверями, покуда в зале бесконечно тянулась Седьмая Брукнера. Прокурор возбужденно метался взад и вперед, так что капельдинерам несколько раз пришлось его призывать к порядку, и вообще с ним обращались как с дикарем. Он проклинал на чем свет стоит всю романтику, проклинал Брукнера, за дверью до сих пор тянули адажио, и когда наконец после финала раздались аплодисменты (которые, кстати сказать, тоже никак не хотели кончаться), а публика между шпалерами полицейских начала покидать зал, доктор h.c. оттуда вообще не вышел. Он исчез. Начальник полиции провел его через служебный выход к своей машине и отвез в полицейское управление.
Возможный вариант второго разговора: в управлении начальник провел д-ра h.c. в свой кабинет. По дороге они не обменялись ни единым словом, теперь начальник шел первым по пустому, плохо освещенному коридору. В кабинете он молча указал на глубокое кожаное кресло. Закрыл дверь на цепочку и скинул пиджак.
— Располагайтесь со всеми удобствами.
— Спасибо, я уже расположился, — ответствовал Колер, который тем временем успел сесть.
Начальник выставил два бокала на стол, разделявший оба кресла, и достал из шкафа бутылку красного вина.
— Шамбертен Винтера, — пояснил он, разлил вино по бокалам, тоже сел, некоторое время смотрел прямо перед собой, потом вдруг начал усердно вытирать пот со лба и шеи.
— Дорогой Исаак, — наконец заговорил он, — скажи мне ради Бога, зачем ты пристрелил этого старого осла?
— Ты подразумеваешь… — как-то неуверенно начал кантональный советник.
— Ты вообще-то соображаешь, что натворил? — перебил его начальник.
Советник не без удовольствия отхлебнул из своего бокала, но отвечать сразу не стал, а вместо того с некоторым удивлением, хотя и не без легкой насмешки поглядел на собеседника.
— Ясное дело, — ответил он наконец, — ясное дело, соображаю.
— А почему ты пристрелил Винтера?
— Ах, ты вот про что, — протянул кантональный советник и вроде бы задумался, потом со смехом: — Ах, вот ты про что, недурно, недурно.
— Что недурно-то?
— Да все.
Начальник решительно не знал, как на это реагировать, был сбит с толку и рассержен. Убийца же, напротив, явно развеселился, несколько раз издал тихий смешок, его явно что-то забавляло.
— Ну, хватит. Почему ты убил профессора? — снова упорно и настойчиво подступил к нему начальник, а сам вытер пот со лба и с шеи.
— Без всякой причины, — признался кантональный советник.
Теперь начальник с великим удивлением воззрился на него, подумав даже, что ослышался, потом допил свой бокал, налил еще, но расплескал вино.
— Без всякой?
— Без всякой.
— Но это же бред, уж, верно, какая-нибудь причина у тебя была, — в нетерпении вскричал начальник. — Это бред!
— Прошу тебя, делай то, что велит тебе твой долг, — сказал Колер и допил вино.
— Мой долг велит мне арестовать тебя.
— Вот и действуй.
Начальник пришел в совершенное отчаяние. Как трезвый и рассудительный человек, он любил ясность в делах. Убийство для него было своего рода несчастным случаем, который не подлежит моральному суду. Но, как человеку порядка, ему требовалась видимая причина. Убийство без причины, с точки зрения начальника, попирало не законы нравственности, а законы логики. А так не бывает.
— Всего бы лучше упрятать тебя в сумасшедший дом для обследования, — яростно выпалил он, — не бывает, чтоб человек без всякой причины совершил убийство.
— Я абсолютно нормален, — спокойно парировал Колер.
— Может, позвонить Штюсси-Лойпину? — предложил начальник.
— Зачем?
— Вот голова садовая! Тебе же нужен защитник. Самый лучший из всех. А Штюсси-Лойпин у нас самый лучший.
— С меня хватит и назначенного.
Начальник сдался. Он расстегнул воротник и глубоко вздохнул.
— На тебя, видно, нашло помрачение ума, — прохрипел он. — Дай сюда револьвер.
— Какой такой револьвер?
— Из которого ты застрелил профессора.
— Вот чего нет, того нет, — изрек доктор h.c. и встал с места.
— Исаак! — взмолился начальник. — Надеюсь, ты избавишь нас от необходимости тебя обыскивать.
Он хотел снова подлить себе вина, но в бутылке уже ничего не осталось.
— Это проклятый Винтер слишком много выпил, — буркнул начальник.
— Прикажи наконец увести меня, — предложил убийца.
— Будь по-твоему, — отвечал начальник, — но тогда и мы тебя ни от чего не избавим.
Он тоже встал, снял с дверей цепочку и позвонил.
— Уведите этого человека, — приказал он. — Он арестован.
Запоздалое подозрение. Если я пытаюсь воссоздать эти разговоры — их «возможные» варианты, поскольку лично при них не присутствовал, — то отнюдь не с намерением написать роман, а из необходимости точно, насколько удастся, воспроизвести события, впрочем, и это вовсе не самое трудное. Хотя правосудие действует главным образом за кулисами, но и за кулисами размываются с виду столь резко очерченные сферы компетенции, меняются либо подвергаются новому распределению роли, происходят разговоры между действующими лицами, которые в глазах общественности числятся заклятыми врагами, и вообще господствует совсем иной тон. Не все бывает зафиксировано и приобщено к делу. Информацию можно сделать достоянием гласности, а можно и утаить. Так вот, при мне начальник всегда был очень словоохотлив и откровенен, но по доброй воле все рассказывал, давал ознакомиться с важными документами, нарушая порой ради меня инструкцию, да и вообще до сих пор ко мне расположен. Мало того, сам Штюсси-Лойпин был по отношению ко мне воплощением предупредительности, даже когда я уже давным-давно находился в противоположном лагере, ветер переменился только теперь, да и то по совершенно другой причине. Вот почему мне незачем выдумывать эти разговоры, достаточно их реконструировать. В крайнем случае я могу их вычислить.