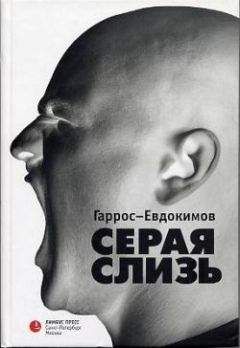Сам Зигис подтвердил: идти тогда в тумане в одиночку было, строго говоря, нельзя. Арчи повернул. Он оказался в числе четырех – из двенадцати – наших, кто так и не взял Эльбруса.
(Вечером я сам поднял термокружку с прохладненским марочным за поступившихся понтами ради доводов разума – и в этом тосте даже была немалая доля правды. Но искренности в нем – не было…)
Я попер вперед. Вслепую практически. Минут через десять я увидел камень с пришпиленными к нему флажками-вымпелами и понял, что выше – уже некуда.
Еще минут через пять туман распался: не больше чем минуты на полторы, но – полностью.
Я стоял здесь и видел ВСЕ ЭТО. Один.
Я прыгал и орал. Просто орал. Без слов. В лучшем случае – матом. Плохо помню. И кидал “факи” на все стороны света. Никогда больше в жизни меня так не перло. И никогда больше не пропрет.
…Потом они, конечно, все подтянулись. Едва начав спуск, я наткнулся на Яниса с Солвейгой – и с ними забрался обратно, по второму разу, и Янка достал видеокамеру: но кругом давно снова было молоко. Народу прибывало, болботали на разных языках и уже чуть не толкались. Объявился давешний монголоид – с четырьмя присными (монголоидами же) и с английскими воплями “Game is over!” развернул южнокорейский флаг. Рядом с тремя минутами раньше развернутым чешским…
Большинство – подавляющее большинство – погибших в горах погибло на спуске. Идти вниз опаснее по определению: физическая вымотанность, ослабевшее внимание, психологический эффект-обманка – вниз вроде же легче; и вообще – главное сделано, можно расслабиться… Туман никуда не делся, дороги я не видел. Своих опять потерял. Вешки возникали из млечных клубов с запозданием и не там, где я ожидал. Какие-то нерусские объявились на границе видимости – и направились совсем не в ту сторону, где, по моим прикидкам, должны были быть Скалы Пастухова и Приют… И вспоминалось, что зона трещин вообще-то неподалеку.
Туман. В нем – рассеянное нечеловеческое освещение. Чувство времени пропало совсем, чувство направления – почти. Снег благополучно подтаял, то и дело уходишь в него по колено, временами вообще шлепаешься на жопу. Я даже кошки снял. Усталость – уже не усталость, а режим зомби.
Туман. Никого.
(“Жизнь – это одинокий бизнес”, гениально-коряво перетолмачил очередной гнусавый пират фразу из краденой мериканской киношки времен моей синефильской юности. На самом деле в жизни, обыкновенной жизни, внизу, тебя, собственно тебя, вообще нет. Есть – субъект отношений, связей, функций. Равнодействующая мнений на твой счет. Плательщик долгов, исполнитель ролей. Единица силы инерции…)
…Только-только вышел, наконец, из тумана. Сижу на камне, палки воткнуты рядом, мыслей – ноль. Стянул шапку, волосы колтуном. Размазываю трясущейся рукой пот с темными чешуйками сгоревшей кожи по отросшей щетине. Непосредственно надо мной – глухое облако, напрочь скрывающее вершину. Внизу – еще довольно далеко, но уже хорошо различимая, колко блестит жестяная крыша Приюта. И вдруг слышу: поют. Горланит кто-то на все приэльбрусье идиотский попсовый мотив.
Скоро я узнал, в чем было дело. Сноубордист Саша забрался в одиночку со своей доской к Скалам Пастухова. И вот несется он вниз на сумасшедшей скорости, закладывая дикие виражи, обгоняя со свистом умученных восходителей – и орет, горланит, заливается…
Я мог бы сказать, что тогда вспоминал Гвидо, – но тогда я не вспоминал ни о ком и ни о чем. Но потом – уже этот момент, в свою очередь, вспоминая, – я, конечно, думал о нем.
О Гвидо, который называл себя “одиноким волком”, – и в этом не было ни пошлости, ни кокетства. Который всегда сам ставил перед собой совершенно бессмысленные на любой посторонний взгляд задачи – и решал их всегда соло. Который на тот же Эльбрус шел с другом и напарником Валиком: вместе – но порознь. Один с байком, другой с двумя ледорубами, неподалеку друг от друга, но – каждый сам по себе…
С некоторых пор я догадываюсь, почему. И зачем Месснер в одиночку лез на восьмитысячный Нангапарбат. И зачем Ален Бомбар в одиночку плыл через Атлантику. И почему один из последователей “человека-ящерицы” Патрика Эдлинже после очередного восхождения не только без напарников, но и без страховки, до такой степени не захотел возвращаться в “болото человеческих отношений”, что утопился в горном озере.
По профессии Гвидо был вообще-то инженер-конструктор. В советские еще времена работал на ВЭФе. Электроника, впрочем, прикалывала его не дико. Его прикалывал хоккей. В команде Рижского политеха, в высшей республиканской лиге, Эпнерс рубилcя семь лет. И даже здесь, в хоккее, в который, как известно, не играет трус, умудрялся добывать лично для себя добавочную дозу адреналина – у него в команде была репутация, по-энха-эловски выражаясь, “таффгая” – драчуна-заводилы…
Хоккей кончился для Гвидо в середине восьмидесятых: Эпнерс обморозил ноги на Сигулдской бобслейной трассе (что хоккеист там ловил, я не знал никогда – но я слишком хорошо знал Гвидо, чтобы ничему не удивляться). Из тренировочного конвейера он выпал. Завял. Коллеги свели с энтузиастами из велокружка. Ездить Гвидо понравилось, но по ровной поверхности было неинтересно. Так что, купив себе первый велосипед, “Спортшоссе”, он немедля ломанулся на нем в Крым. Покатался по крымским горкам, в следующем году – по скандинавским, еще через год (было уже начало девяностых) доехал до Кавказа. А доехав, конечно, сразу вылез с байком на ледник (хаживал я и по леднику: там и без велосипеда не скучно… но это мне не скучно; а Гвидо рассекал по льду ночами, без фар, с галогенным фонариком в зубах). Ну и нацелился, вестимо, на высочайшую вершину хребта.
Осенью девяносто пятого он провел на эльбрусских склонах генеральную рекогносцировку тире разведку боем; по раздолбайству своему Гвидо запасся неподходящей едой – вся привезенная с собой пайка испортилась, и десять дней латвийский маунтин-байкер болтался в одиночку по опустевшим к октябрю кошам, выискивая гнилую картошку и лук и питаясь ими. И даже несмотря на такую диету, Эпнерс всерьез хотел влезть на Эльбрус – но сообразил-таки, что не потянет в этот раз. Но уже тогда опробовал метод подъема по снегу без ледоруба, заменяя последний велосипедными колесами со специально вмонтированными семнадцатимиллиметровыми титановыми шипами. Спал, рассказывал он, полустоя, опираясь на раму: “Не так уж неудобно…”
И тогда же там же он встретил Валика – Валентина Айвазова, персонажа из разряда тех уникумов, которые для гор если не типичны, то весьма нередки. Врач, фотограф, видеооператор, заслуженный геолог СССР, альпинизмом занимавшийся с четырех лет. По паспорту ассириец. С каковым Валиком они и залезли годом позже на Эльбрус – вместе, но поодиночке.
…Каковой Валик и волок на себе бесчувственного Эпнерса – после того как на спуске, на “бараньем лбу”, обледенелом, вертикальном почти скате, Гвидо навернулся – упал на спину, байк рухнул сверху, теми самыми шипами воткнулся в лицо, пробил череп, Эпнерса понесло – и несло двадцать метров. Валик нашел его по кровавому следу. Перевернув тело, он – врач! – сначала решил: покойник. Сам Айвазов, вымотанный к тому моменту “в ноль”, понимал: не дотащит. Отрыл в снегу “бивуак” (так по-гусарски именуется банальная снежная нора… могила), сунул туда Гвидо, воткнул рядом палки, на них натянул перчатки с “отражателями”… Бегом – через стремные участки – двинул вниз.
В принципе в таком “бивуаке” человек может протянуть часов семь-восемь. Гвидо пролежал тридцать два. Когда Валик добрел до спасателей, ему еще пришлось уламывать их поторопиться: никто не верил, что Эпнерс может быть жив… Попарились не только спуская Гвидо (слегка отпоенного чачей с чаем – жевать он все равно не мог, челюсти тоже были разбиты: “Как самочувствие? – Как пошле боя ш Тайшоном…”) с самых Скал Пастухова, но и везя в кисловодскую больницу: времена были вполне лихие, и “скорую” раз пять тормозили ребята с “калашами” – только не менты, бандиты.
После операции Гвидо встал на четвертый день. Врачи фигели, Гвидо кайфовал: сам потом признавался, что чуть не натурально рыдал от счастья: “Ты ж знаешь – не могу жить без движения”.
Насчет “без движения” – это буквально до самопародии: Эпнерс на стуле не высиживал неподвижно дольше полуминуты – принимался ерзать… Общественным транспортом не пользовался никогда; если не перемещался по городу на велике – делал многокилометровые концы пехом. Еще не пользовался часами. Еще годами не удосуживался купить кровать, преспокойно ночуя в собственной квартире в спальнике. Еще не пил ничего более допингового, чем минералка без газов. Еще, будучи задвинутым меломаном, не держал в доме вообще никакой проигрывающей техники, полагая, что все эти мафоны и сидишники до класса хай-энд включительно суть профанация, а слушать музон надлежит исключительно вживую; и когда в перестраивающийся Совок начали возить титульных западников, Гвидо побывал практически на всех концертах практически всех рок-н-ролльщиков – от “Скорпов” (три раза) до “Металлики”. На концерт “Пинк Флойд” прорвался, увидев (в Риге!) по ТВ сообщение, что завтра “флойды” выступают в Москве. Через десять минут Эпнерс уже голосовал на шоссе…