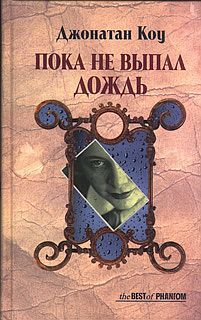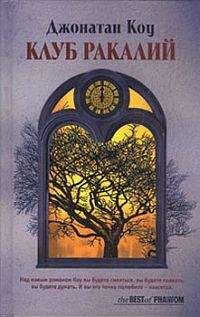— Однажды после уроков мы с моей школьной подругой Моникой шли вместе домой, нам было по пути, — рассказывала Tea, понизив голос и явно сдерживая слезы. — Просто шли, держась за руки. Она увидела нас и обозвала извращенками. А потом запретила Монике приходить к нам. Моей лучшей подруге. Мне тогда было пятнадцать лет. Всего пятнадцать!
Я шла рядом, не зная, что сказать. Да и что я могла сказать? Наверное, я бормотала слова утешения, затертые и бессмысленные. Слова эти даже вмятины не оставили на жестком панцире, за которым укрылась обиженная Tea.
— Самое жуткое, — продолжала она, — слушать, как все вокруг — все ее знакомые — твердят наперебой, какой она замечательный человек и как нам повезло с матерью.
Я спросила, кто эти «все».
— Коллеги по работе, — ответила Tea.
Я и не знала, что Беатрикс работает. Tea объяснила: мать пошла работать в местную больницу, сперва на добровольных началах, а потом ей предложили какую-то менеджерскую должность. В больнице в Беатрикс души не чают.
Я легонько пожала руку Tea — еще один банальный жест, не вызвавший ни малейшего отклика. Я смотрела на залитый лунным светом снежный сад, на таинственный дом, что без устали сторожил свои угодья, — темная твердыня, переполненная воспоминаниями, — и в сотый раз подумала, до чего же странный, противоречивый человек эта Беатрикс и не смогу ли я помочь Tea — нет, не простить свою мать, но хотя бы понять ее, если расскажу девочке, как мы познакомились, Беатрикс и я, с чего началась наша дружба. Пусть Tea узнает, какой была ее мать в детстве и где она росла. (Полагаю, тот же порыв и сейчас владеет мной, заставляя говорить и говорить в этот микрофон.) Если слов, фраз, жестов недостаточно, может быть, Tea нужно связное повествование? Может, повествование о той ночи, о ночи двадцатипятилетней давности, когда Беатрикс лихо, словно в танце, провела меня по кругу, поможет Tea разгадать материнский характер? А вдруг это и мне поможет? Ведь сколько лет прошло, но я понимала Беатрикс не лучше, чем Tea. Решив, что попытаться стоит, я осторожно спросила:
— Мама когда-нибудь рассказывала тебе об этом доме? Говорила, как мы познакомились? И как стали неразлучны?
В голове у меня уже созрел план: я отведу Tea в глубину сада и отыщу там, если удастся в кромешной тьме, тайную тропу, что вела к полянке, где стоял прицеп. Но Tea смела мои построения одним махом, заявив:
— Мама никогда не говорит о тебе.
Я онемела.
Мое изумленное молчание (уж не знаю, сколько оно длилось), должно быть, произвело на нее впечатление. Возможно, Tea вообразила, что я ей не верю, и добавила: «Никогда» — и посмотрела на меня… с чувством превосходства, что ли? Затем она отшвырнула сигарету и затушила ее, шипевшую и дымящуюся в снегу, растоптав каблуком.
Tea зашагала назад к дому. Помедлив немного, я поплелась за ней, съежившись, чуть ли не согнувшись под тяжестью услышанного.
На следующий день, когда почти вся родня спала, вымотанная индейкой и вином, я в одиночку отыскала тайную тропу. За долгие годы она густо заросла: мне пришлось продираться сквозь колючие ветки, торчавшие во все стороны, снег валился с них хлопьями, и все же я добралась до нашей полянки. Прицеп как стоял там, так и стоял; я даже немного удивилась. Дверь была заперта. Я смахнула перчаткой снег с оконных стекол, но окна были настолько грязные, что я ничего не сумела разглядеть. Однако самого прицепа, его необычных очертаний в форме слезы оказалось достаточно, чтобы вызвать целый рой не слишком приятных воспоминаний. Очень скоро я уже шла обратно, ломая ветки и слегка дрожа. Когда я рассказала дяде Оуэну, где я побывала, старик разволновался: дядя, полагая, что прицеп давно истлел, искренне позабыл о его существовании. Мы с ним потратили немало времени на поиски ключа, но так и не нашли. Оуэн вызвался мне в угоду взломать дверцу или разбить окно, но я отклонила это предложение, хотя и оценила дядино великодушие. Я подумала, пусть все так и останется, пусть в прицеп никто не сможет войти, не нужно туда никому входить.
Не знаю, смогу ли я точно определить дату, когда был сделан этот снимок. Какой он у нас по счету? Шестнадцатый? Выходит, осталось всего пять. Слава богу! Я начинаю уставать от этой истории, да и ты, наверное, утомилась, слушая мою нескончаемую болтовню. Потерпи еще немножко, Имоджин, прошу тебя. Скоро все закончится — все и совсем скоро. Ко всеобщему облегчению, я уверена.
Итак, точную дату съемки я назвать не смогу. Разве что приблизительную: конец 60-х либо самое начало 70-х. Я сужу по прическам, этому наиболее отличительному признаку эпохи, да и по одежде тоже. Джозефу на этой фотографии лет пятнадцать, волосы у него спускаются чуть ли не до плеч. Тогда это было невероятно модно, а сейчас кажется диковатым. Как и рубашка Джозефа — с воротником шириной почти десять сантиметров. И дело тут не в подростковом бунте, Чарльз выглядит ненамного лучше. Что с нами тогда случилось? Каким образом все в одночасье утратили вкус?..
Мне постоянно приходится одергивать себя, вечно меня тянет на пустые разглагольствования. Нет чтобы начать, как полагается: рассказать, где мы находимся и на что смотрим. Так вот, мы в канадской провинции Саскачеван, а точнее — в городе под названием Саскатун. А смотрим мы на дом Беатрикс и на четверых людей, стоящих напротив дома. Перечисляю их слева направо: Чарльз, Джозеф, Элис и Беатрикс собственной персоной.
Дом очень основательный, обшитый досками и выкрашенный в белый цвет. Соседних домов на снимке не видно, но сразу возникает ощущение, что мы очутились в зажиточном районе. За спинами членов семьи, в верхнем правом углу фотографии, маячит автомобиль — определенно большой, комфортабельный и дорогой. Сад — вернее, та его часть, что попала в кадр, — представляет собой лужайку, окаймленную кустами белого и розового рододендрона. Солнце светит вовсю, и семейство щурится, глядя в объектив.
Смотрю я на этот дом и думаю: замечательный, спору нет. Но все равно никогда не поверю, что дом в Саскатуне — каким бы он ни был — способен сравниться с особняком в лондонском пригороде. В последнее время я часто слышу словечко «минимизация», — все, включая потребности, сводим к минимуму, невзирая на доходы, но тогда такими вещами всерьез не увлекались. Зачем им понадобилось продавать недвижимость в Англии и переезжать в Канаду? Может, Чарльз наделал ошибок у себя в Сити и сел в финансовую лужу? Вряд ли. Скорее, их сманил свежий воздух и широкие просторы. Не сомневаюсь, жилось им там, в Канаде, привольно.
В таких домах, обшитых ради тепла досками, есть что-то необычайно привлекательное. У этого дома широкое крыльцо, на которое поднимаешься по четырем деревянным ступенькам. Над крыльцом застекленный балкон, уставленный цветочными ящиками с красными георгинами. Балкон примыкает к одной из спален — скорее всего, к спальне Чарльза и Беатрикс. Под самой крышей жилое помещение с небольшим подъемным окошком, расположенным ровно посередине стены; открывается окошко в комнату, возможно предназначенную для Элис. А может, и для Tea, ведь она жила какое-то время в этом доме. Но вернемся на первый этаж. Слева длинная веранда, опоясывающая весь дом, на веранде два стула — стульев наверняка больше, но нам видны только два — и маленький стол, накрытый клетчатой скатертью. На столе ваза из прозрачного стекла, в ней пышный букет цветов — голубых, желтых и темно-фиолетовых. А рядом с вазой массивный кувшин из некрашеной глины.
Не буду скрывать, мне эта фотография нравится. Она такая уютная. Жаль, конечно, очень жаль, что на ней нет Tea, но что нам мешает предположить, что именно она и снимала. Правда, я в этом сильно сомневаюсь. В ту пору ей перевалило за двадцать, и хотя она уехала в Канаду вместе с родителями и даже поступила в университет в Калгари, но курс так и не кончила, поскольку вскоре вернулась в Англию — одна. Грустная история: по сути, ее выгнали из родного дома. Я не стану распространяться на эту тему… вернее, я буду говорить об этом, обязательно буду, но немного позже, когда возьму в руки следующие снимки, — ты уж не обижайся, Имоджин. А что касается этой фотографии, то, как я уже говорила, она мне нравится. Беатрикс здесь выглядит счастливой. И не только она, у всех у них довольный вид. Знаю, люди, снимаясь, почти всегда улыбаются — это одна из причин, почему нельзя доверять фотографиям, — но здесь у Беатрикс улыбка настоящая, уж поверь, я-то знаю. Будто незадолго до съемки ей рассказали гомерически смешной анекдот, над которым она хохотала, запрокинув голову, и только-только прекратила смеяться. Одета Беатрикс в простую желто-коричневую рубаху и голубые джинсы, и смотрится она в этом наряде вполне естественно. В Англии она бы ни за что такое не надела, а в Канаде запросто. На шее у нее изящный золотой медальон. Интересно, кто ей его подарил.