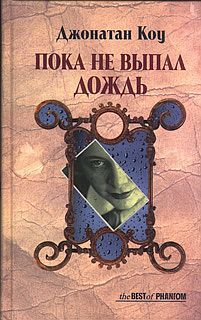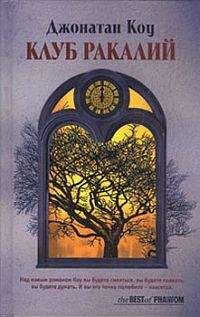В связи с ее переездом в Канаду мне вспоминается один любопытный факт. Если не ошибаюсь, эту фотографию я получила вместе с письмом (которое, к сожалению, куда-то затерялось). Беатрикс писала мне редко. Ну да, присылала открытки к Рождеству, обычно приписывая наспех несколько строк на обороте с новостями о домочадцах, но письмами не баловала. Однако в письме, о котором идет речь, меня больше всего поразила подпись внизу — Анни. Не Беатрикс, но Анни. Я долго пялилась на это имя, пока не решила, что моя кузина подписалась так по рассеянности (впрочем, ничего себе рассеянность: перепутать собственное имя), и в ответном письме я обратилась к ней как всегда — Беатрикс. Но к концу года я получила от нее рождественскую открытку, заканчивавшуюся словами: «Анни, Чарльз и дети».
* * *
Что ж, она имела полное право поменять имя. Похоже, что в тот миг, когда она ступила на канадскую землю, она отбросила прежнее, Беатрикс, и больше никому не позволяла так себя называть, даже мужу и детям. Она предпочла родиться заново, раз и навсегда порвав со своим прошлым.
Среди многого, что называлось ее «прошлым», была, понятное дело, и ее старшая дочь.
Больше об этой фотографии мне нечего сказать, но, пожалуй, я кое-что добавлю в качестве постскриптума. Это последний по времени снимок Беатрикс, который у меня есть, и, поскольку в продолжении этой истории она непосредственного участия не принимает, думаю, сейчас самый удобный момент, чтобы рассказать, что с ней стало. Рассказать то немногое, что мне известно.
Лет семь-восемь назад, блуждая по рынку в Шрусбери, я наткнулась на Реймонда, старшего брата Беатрикс. Тогда ему было уже под семьдесят. Очень высокий старик с преувеличенно прямой осанкой, с густыми усами и бакенбардами и одетый в костюм-тройку, какие носили в 1940-х годах. То есть выглядел он нелепее некуда — ни дать ни взять реликт эпохи давно исчезнувшей и еще быстрее забытой всеми, кроме горстки чудаков. Сразу было видно, что он — деревенский житель, из тех, что безвыездно прожили в деревне, а попав в город, чувствуют себя не в своей тарелке. Господи, да ему самое место было в массовке «Преданных земле»!.. Но я отвлеклась. Реймонд меня, разумеется, не узнал; странно, что я его узнала. Мы поболтали минут пять — ровно столько, сколько нужно, чтобы поведать в общих чертах, что с нами произошло за эти годы. Понятно, что я излагала факты из своей жизни очень выборочно. В конце нашей беседы я спросила — с некоторым трепетом, — общается ли он с Беатрикс. Она умерла, ответил Реймонд, в 1991-м, ей был шестьдесят один год. Рак горла. Умерла она в Канаде, хотя с Чарльзом к тому времени уже развелась. (Я всегда подозревала, что их развод неизбежен, учитывая параноидальное бешенство, в которое вгоняли Беатрикс воображаемые измены мужа.) Последние двадцать лет своей жизни она работала — и, по-видимому, весьма успешно — больничным администратором. Закончила она свою карьеру в небольшой клинике в Альберте, где ее считали лучшим администратором за всю историю больницы и где ее все любили. По словам Реймонда, коллеги глубоко переживали ее смерть и до сих пор каждый год отмечают ее день рождения. Врач из этой клиники, приехав в Англию, специально разыскал Реймонда, чтобы вручить ему коробку с кое-каким имуществом его покойной сестры. В коробке, кроме всего прочего, лежало письмо, подписанное всеми медсестрами клиники; младшие коллеги называли Беатрикс «самой достойной женщиной, какую они когда-либо встречали в жизни» и даже «святой». Особенно их восхищало то обстоятельство, что она продолжала жить полной жизнью, несмотря на страшную трагедию, случившуюся с ней в молодости.
Вот и все, Беатрикс… конец твоей истории. Беатрикс, моя кузина, моя кровная сестра. Очень скоро я, возможно, окажусь там же, где и ты сейчас. Но не знаю, захочу ли я встретиться с тобой. А если захочу, то узнаешь ли ты меня? И как мне тебя теперь называть — по-прежнему Беатрикс или все-таки Анни?
Семнадцатая карточка. Опять прицепы. Много прицепов. Я же говорила, что они еще появятся.
От этой фотографии веет холодом. Гляжу на нее, и дрожь пробирает. День, помню, выдался необычайно промозглый. Зима 1975-го, Линкольнширское побережье. С Северного моря дует ледяной ветер.
На снимке целых четыре прицепа (или их надо называть домами на колесах?), они стоят неровным полукругом на полоске травы. Нам эти огромные, приземистые, уродливые повозки видны спереди. Трава тощая, грязная, припорошенная то ли снегом, то ли инеем. Если бы мы заглянули за рамки фотографии, то обнаружили бы еще больше прицепов. Их тут около сотни, этих передвижных домов, они тянутся вдоль берега, и конца им не видно. Удивительно, как жители этого «поселка» умудрялись без ошибки найти свой дом. Впрочем, Мартин не раз ошибался дверью, возвращаясь с очередной пьянки.
И снова я забегаю вперед. Ты ведь понятия не имеешь, кто такой Мартин! Объясняю: он был сожителем Tea. Не мужем, нет, — по-моему, они так и не поженились, — но сожителем и отцом ее ребенка. То есть твоим отцом, Имоджин.
А поскольку он твой отец, я постараюсь к нему не придираться, хотя не скрою, в тот единственный раз, когда я его видела, симпатии он у меня не вызвал. Собственно, тогда и был сделан этот снимок.
Вот они стоят тут вдвоем, перед домом на колесах. Но не только они, на этой фотографии есть и третий человек, и это ты, Имоджин! Наконец-то. Ты появилась на свет! Держу пари, ты уже думала, что мы никогда не доберемся до этого события. Правда, тебе здесь всего несколько месяцев, и нам видно лишь твое крошечное личико, выглядывающее из-под белого одеяла, в которое тебя закутала Tea. Я уже высказывалась на другой пленке — кажется, что это было так давно, — о внешности младенцев: все они почти на одно лицо. Поэтому давай-ка лучше сосредоточимся на лицах твоих родителей.
* * *
Мартин. Если мне не изменяет память, он был немного моложе твоей матери. На этом снимке ему года двадцать два. Слишком молод, чтобы быть отцом. Непростительно молод. У Мартина темно-каштановые волосы до плеч и обвисшие неопрятные усы. Он в черной кожаной куртке, майке и джинсах. Куртка с широким воротником по ужасной моде 1970-х. Кожа у Мартина серая, нездоровая, на худой шее выпирает кадык. На майке портрет Адольфа Гитлера, а под ним надпись: «Европейское турне, 1939–1945». Помнится, он находил это очень забавным. Tea признавалась, что кое-кто в поселке обращался к ней с претензиями по поводу этой майки: там обитало немало пожилых людей, и среди них попадались даже ветераны войны. Но Tea эти претензии всерьез не воспринимала. С соседями она не очень ладила.
Во что одета твоя мать, нелегко разглядеть, потому что она держит тебя на руках. Вроде бы на ней кожаная безрукавка поверх белой водолазки, воротник подпирает подбородок. У Tea длинные волосы, расчесанные на прямой пробор. На голых ногах босоножки — на мой взгляд, не самая подходящая обувь в такую погоду. Но вероятно, мы вышли на улицу буквально на минутку, лишь для того, чтобы сфотографироваться, а потом снова вернуться в тепло.
* * *
И, что поразительно, в прицепе и впрямь было тепло. Помнится, у них имелись и обогреватели, и газовая плитка, и электрический камин. Еще бы, когда день изо дня борешься с безжалостным северным ветром, чем больше обогрева, тем лучше. А они жили на самом ветру. Но в доме было почти уютно — если не замечать ужасного беспорядка и пыли. Общая комната приемлемого размера, к которой примыкала маленькая кухонька. Две крошечные спальни — действительно крошечные, в них было не повернуться — и такие же ванная и туалет. Словом, жилье для временного пользования: с ним можно мириться, если ты заехала туда на пару дней и если рядом с тобой человек, который тебе по-настоящему нравится, с которым не тягостно находиться бок о бок. Но когда ты растишь ребенка и вдобавок в компании с практически чужим тебе мужчиной… Если честно, не думаю, что дом на колесах годится для таких целей.
Примерно месяцем ранее Беатрикс осчастливила меня редкой весточкой, содержавшей потрясающую новость: моя кузина стала бабушкой. В возрасте сорока пяти лет! Надо сказать, большой радости она по этому случаю не выразила. Да и я тоже далеко не ликовала. В последнее время я почти не виделась с Tea. Мне было известно, что она вернулась в Англию, но и только. На мои письма она, как правило, не отвечала; одно или два вернулись с пометкой «Адресат неизвестен», из чего я заключила, что Tea ведет кочевой образ жизни. Я разыскивала ее через школьных подруг, и одна из них просветила меня, сообщив, что Tea прибилась к альтернативщикам и теперь обретается в сквотах с рок-музыкантами и им подобными. Тут я ничего не могла поделать, а кроме того, такой образ жизни казался мне довольно безобидным. Да и Tea не горела желанием спрашивать моего совета, это она дала мне понять не раз и не два. Я догадывалась, что о годах, прожитых вместе со мной и Ребеккой, у нее сохранились весьма смутные воспоминания. В качестве суррогатной матери — кем, наверное, в глубине души я хотела быть для нее — она меня не рассматривала. Вероятно, она думала обо мне — если вообще думала — как о надоедливой одинокой тетке, которую лучше избегать. Что ж, что получилось, то получилось. И, как уже было сказано, ничего поделать с этим я не могла. В других отношениях моя жизнь складывалась… не то чтобы счастливее, но, во всяком случае, плодотворнее. В издательстве от скромной секретарши я продвинулась до весомой должности старшего редактора. И познакомилась с очень милой женщиной — и прекрасным художником — по имени Рут. Постепенно мы сблизились — в наших чувствах преобладала взаимная нежность — и поселились вдвоем в небольшом доме в Кентиштауне. Жили мы интересно, насыщенно. С Рут мне повезло, спасибо и на том.