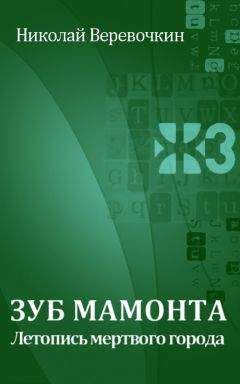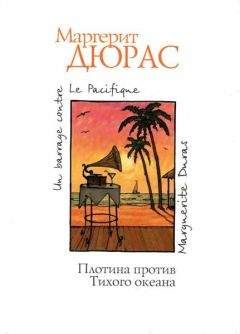— Не понимаю, как это взять и проткнуть себе железом вену. Для меня сестричка со шприцем страшнее, чем фашист с автоматом. Я этих уколов с детства боюсь. А тут самому. В вену, — с брезгливым омерзением фыркнул Козлов.
Руслан молчал, ероша жесткую щетину на голове. Козлов примерил стекло к раме. Чуть больше, чем надо.
— А потом и она укололась.
— Понятно, проходили, — сказал Козлов с мрачной печалью, — укололась, чтобы доказать тебе, что можно бросить.
— Это я ее на иглу посадил.
Руслан так плотно зажмурился, что, казалось, еще чуть-чуть — и веки вдавят глазные яблоки в мозг. Нет ничего страшнее, ничего самоубийственнее чувства вины. С ним не сравнятся ни ревность, ни стыд, ни физическая боль. С ним невозможно жить. Может быть, поэтому люди научились так быстро избавляться от этого чувства.
Козлов, взглянув на эту жуткую, отвратительную маску, едва не выронил стекло.
— Ну, — пробормотал он, смутившись, — ты же бросил. И она бросит.
— Уже бросила, — подтвердил Руслан, отвернувшись, — навсегда. Три ступени до лестничной площадки не дошла. Утром мама выходит, а она сидит. Голова на коленях. Плечом к перилам прижалась. Маленькая такая.
Руслан замычал. Это был неприятный звук — то ли брошенный щенок скулил, то ли провода гудели в безлюдной степи. Слышать его было невыносимо.
— Перестань, — поморщился Козлов и стал зло обламывать край стекла. Крошки летели на пол.
Все так же стоя к нему спиной, Руслан сказал чужим голосом:
— Два дня назад умерла. У наших дверей.
— Два дня назад?
— Я домой звонил.
— Она что — рядом с вами жила?
— Нет.
— Дружили?
— Одной иглой кололись, — сказал он зло. — Зря ты свою кровь в меня перекачивал. Наркоман — это как олимпийский чемпион, звание дается раз и навсегда. Я человек конченый. Таких, как я, надо каблуком давить. С отвращением. Если бы не ты со своей кровью, я бы уже все проблемы решил. Запомни на будущее: никогда не верь наркоману. Особенно, когда он с тобой по душам говорит.
Козлов снова примерил стекло. Чуть доломал низ. Вставил в раму. Елозя молотком по стеклу, вколотил в пазы треугольнички жести.
— Ну, извини. Только резать вены стеклом — пижонство. Не знаю, как на твой вкус, но и вешаться как-то не по-мужски. Топиться? Нет, топиться, травиться — бабское дело. Мужчина должен стреляться. Я бы на твоем месте застрелился.
— Из чего? — удивился Руслан странному повороту разговора.
— Из пистолета. Могу дать напрокат, — Козлов сложил газету с осколками стекла, скомкал и бросил в буржуйку.
— Очень смешно, — обиделся Руслан.
— Да какой смех. Человек не хочет жить. Человеку нужно помочь.
С этими словами он ушел в дровяную комнату, возбудив у пеликана Петьки сначала напрасные надежды, а затем глубокое разочарование. Погремев некоторое время поленьями, вышел с тряпицей в руках. Развернул — действительно пистолет.
— Откуда он у тебя? — не поверил своим глазам Руслан.
— От верблюда, — охотно объяснил Козлов.
Он вынул обойму, выщелкал на ладонь патроны. Подставил табурет к шкафу. Высыпал патроны в коробку и спросил сверху:
— Одного хватит? Не промахнешься? — Спрыгнул, протянул было пистолет, держа его за ствол, но передумал. Спрятал под ремень за спину. — Потом квартиру не отмоешь, — объяснил он, — знаешь, как это бывает — кровь, мозги на стене до потолка. Стреляться лучше на природе. Там и кровь, и мозги как-то к месту. Куда пойдем? Я бы посоветовал на Камни. Но сначала давай пообедаем.
Руслан посмотрел на него с мрачным подозрением и пожал плечами.
Обедали, как всегда, впятером — Петька со Снежком сырой рыбой, Руслан с Козловым — жареной, мышка Машка довольствовалась хлебными крошками.
— Интересно, — сказал Козлов, посмотрев на Снежка, — он вообще теперь мышей не будет жрать или только для Машки исключение? Как думаешь?
С угрюмым недоумением посмотрел Руслан на Снежка, на Козлова и отстраненно пожал плечами.
— Я думаю — жизнь заставит, — продолжал размышлять Козлов. — Коты — народ особый. Как только на чердак потянуло, хвост трубой — и пропал навсегда. Очень они свободу любят, анархисты. А свобода всем хороша, только кормить там тебя никто не будет. Не до хороших манер, придется мышей жрать.
Иней, шурша, опадал с деревьев и проводов. С тех пор как, ударив человека в стекле, Руслан порезал вену на запястье, он жил в нездешнем, слегка звенящем, покачивающемся и кружащемся мире. Самому себе казался невесомым и прозрачным. Как отражение в ночном окне. Они прошли по-над обрывом Ковыльной сопки, мимо первого брода и спустились к каменному пляжу.
— Ну, вот здесь будет хорошо, — придирчиво осмотрев причудливые нагромождения древней потрескавшейся лавы, указал Козлов на камень, похожий на кресло, и ногой расчистил его от снега.
Руслан сел, прислонившись спиной к рыжему от лишайника валуну. Этому лишайнику было, возможно, несколько тысяч лет. Козлов взмахнул рукой, словно раздвинул штору, и рекомендовал со сдержанной гордостью:
— Просторный вид. Здесь и застрелиться приятно. Держи.
Руслан взял в левую руку пистолет и, держа его между колен, огляделся. На вершине заснеженной сопки вырастала из снега, как из облака, береза — небесное дерево. Прозрачная и невесомая, растворялась в синеве. Белая волна берега нависла над матовым льдом. Остров посередине. Журчит и переливается хрусталем незамерзающий перекат. Протока дымится паром. Кажется, горят камни среди тихо бормочущей воды. Река замерзала в ветреную ночь, и лед схватился волнами. Развалины старой мельницы на другом берегу врезаны в обрыв. Скол сопки. Тишина.
Над всем этим ослепительным хрупким миром возвышалась серая громада плотины. Холодная плоть ее была иссечена ледяными молниями трещин. Сугробы под мостом слегка дымились, будто флаги над горными вершинами. В темной протоке плавали дикие утки, патриоты здешних мест. Берег со стороны старого села топорщился щетиной вырубленного краснотала, был неприятно гол, словно побрит перед операцией по поводу аппендицита.
Стреляться не хотелось. Но застрелиться было надо. Руслан поднял приятно тяжелую машину убийства к груди, оттопырил локоть. Сердце под стволом загудело тяжелым колоколом. Коктейль из его и козловской крови зашумел в голове. Палец лежал на спусковом крючке, но нажать на него не было сил. Палец закостенел. Не успев выдохнуть старый воздух, Руслан набирал новую порцию, и легкие, как два воздушных шарика, все раздувались, раздувались, готовые вот-вот взлететь в синеву вместе с человеком, пока тот еще не продырявил себя. Мизинец заледенел. И начиная с мизинца медленно превращались в лед рука и все тело, чуть слышно потрескивая и ноя. Печально и страшно было исключать себя из родственного мира живых.
— А ты взвел пистолет? Ну, кто же так стреляется?
Козлов освободил его руку от тяжести. Но взводить не спешил.
— Я что думаю, — размышлял он вслух, сдвинув стволом шапку на затылок и почесывая косматый висок дулом, — зачем стреляться здесь, если можно застрелиться на кладбище? На чем я тебя через весь город повезу? На салазках? Я бабушке Рубцовой могилу вырыл. Рядом с дядей Гришей, под дикой яблоней. Под древом познания. Знаешь, почему — древо познания? Потому что никто яблоки с него не срывает. Там тебя и прикопаю, а сверху бабушку положу. Компания хорошая. Бабка славная. Самоубийц за оградой хоронят, а я уж тебя по блату, возьму грех на душу.
Заснеженная планета под ногами Руслана поскрипывала и слегка дрожала. У линии горизонта за синими полосками лесов угадывались другие земли, другие миры. Он думал об отверстии, которое продырявит в нем пуля, и той части тела, что вылетит вместе с расплющенным о кости свинцом. Конечно, какая разница мертвому? Но он не мог думать об этом с точки зрения мертвеца. Не мог решить, куда стрелять — в сердце или в голову. И то, и другое было неприятно. Ему хотелось умереть без увечья.
Козлов шел рядом, заложив руки за спину, и что-то тихо бормотал. Руслан перестал думать, что лучше — дыра в груди или дыра в черепе. Козлов говорил странные вещи. В каждом поколении есть свой Христос, но его распинают задолго до тридцати трех лет вместе с другими неизвестными. И он приходит неузнанным и уходит неузнанным. Потому что Бог чурается рекламы. Говорят, в каждом человеке есть частица Бога, и, убивая себя, человек убивает Бога. Вздор, наверное. Неужели и в убийцах скрывается Бог? Возможно, Он в генах? Да, если Бог есть, Он — в генах. Правильно ли самому себя распинать на кресте? С одной стороны, кто другой лучше тебя знает твои грехи? Но одно дело судить себя, а совсем другое быть палачом.
Слова захолустного философа шелестели умиротворяющей метелью.
Они подошли к свежей могиле, раскрытой, как нежное рыжее лоно на белом теле земли. Козлов закурил и сдержанно попрощался.