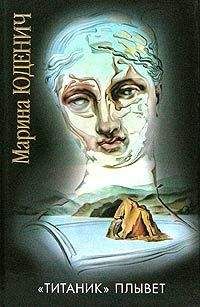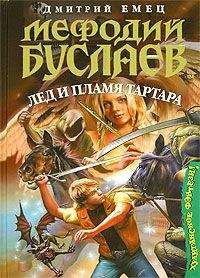Причудливые фантазии До-До превратили просторный особняк на вершине Hollywood Hill в странную экзотическую обитель то ли богини, то ли жрицы порока, то ли преуспевающей business woman из числа самых успешных обитательниц Пятой авеню.
Долли потянулась, кушетка — неожиданная в своем византийском великолепии среди лаконичного авангарда — была мягкой, но узкой, к тому же причудливо изогнутой — ноги затекли и сейчас казались чужими.
Пружинистое движение тела немедленно отозвалось в голове — дремавшая боль встрепенулась. Крохотными молоточками дробно застучала в висках. Пудовым молотом ухнула в затылке.
И сразу же отвратительный горячий комок пополз к горлу — До-До собралась было привычно ругнуться, но не успела — тряпичной куклой свалилась с кушетки, торопливо поползла к унитазу. Запуталась в роскошном кринолине белоснежного платья. Но все же успела.
Грудью — почти обнаженной, платье было открытым — упала на изысканное сантехническое творение от Villeroy, содрогнулась в жестоком приступе тошноты.
— Проклятое martini!
Тонкая рука с хищными ногтями нащупала хромовую кнопку, бачок разразился маленьким водопадом.
Долли зачерпнула пригоршню холодной воды, жадно напилась.
Мокрой ладонью провела по лицу и шее.
Тряхнула головой, отбрасывая назад тяжелые пряди роскошных волос — взгляд уперся в картину над унитазом.
Обнаженная женщина на корточках бесстыже раздвинула ноги. Карандашный рисунок Дали куплен на «Sotheby's» за полтора миллиона долларов.
— Было от чего сходить с ума!
Изысканного шарма Гала Долли не понимала. Но рисунок нравился.
По крайней мере она нашла ему подобающее место, хотя оценить этот шаг по-настоящему смогли единицы. Куда больше было воплей про очередной эпатаж, пренебрежение общественным мнением. И моралью.
Боже правый!
Самые мерзкие скоты на свете более всего любят рассуждать о морали. Грязные пакостники. Похотливые животные. Как они смакуют это идиотское словечко! Пробуют на зубок, катают погаными языками в вонючих ртах.
Мораль!
Плевать она хотела на их мораль.
«Вот моя мораль!» — подумала Долли, обнимая унитаз, и, несмотря на мерзкое состояние души и тела, засмеялась.
Шутки шутками, но началось все именно с унитаза.
Было время, когда Долли не очень-то любила об этом вспоминать. Однако ж ей напоминали. Постоянно.
С подлым, злорадным упрямством глянцевые журналы публиковали фотографию двадцатитрехлетней давности — хрупкая обнаженная девочка, очаровательная и невинная, на… унитазе.
Она же — в спальне, на узкой, почти детской кроватке, неумело мастурбирует.
Она же с подругой-ровесницей — первые пугливые ласки.
Впечатление было такое, будто негодяй-фотограф каждый раз караулил, заставал врасплох и снимал девочку против ее воли. Но это только добавило перца.
Альбом, состоящий из трех десятков черно-белых снимков, стал сенсацией.
Шел 1977 год.
Америка проветривала закоулки, избавляясь от духа бунтарской вольницы, сживалась с образом респектабельной, благочестивой и почти пуританской страны. Но! Скандальную книгу смели с прилавков.
И — понеслось!
Съемки для «Playboy», мужских журналов — классом пониже, реклама белья и туалетных принадлежностей, бесконечные эротические — так утверждали продюсеры, остальным неизменно приходило на ум менее благозвучное «порнографические» — фильмы-однодневки.
Теперь До-До холодела при мысли, что в этом болоте могла увязнуть ее карьера.
К счастью, Мартин держал нос по ветру. Это он, двадцатипятилетний, не слишком удачливый папарацци, предложил ей сняться на унитазе. Они познакомились в «Тгоpicano», грязном клубе на задворках Голливуда. Здесь много пили, курили марихуану и развлекались, наблюдая за жестокими схватками борцов на заплеванном ринге, залитом пивом и кровью.
— Я сниму тебя так, что у всех самцов в этом паршивом, загаженном раю потекут слюнки.
— Что для этого нужно?
— Двадцать долларов, детка. Нужно купить, а потом проявить пленки. И напечатать фото. За работу я не возьму ни цента.
— Okay!
Долли согласилась легко.
В отличие от большинства искателей киношного счастья денег у нее было достаточно — многочисленное и очень богатое семейство в Техасе выбор младшей дочери, разумеется, шокировал, но не настолько, чтобы лишить ее содержания.
Позже благочестивая родня не раз пожалеет об этом. А пока Долли благополучно подвизалась в Лос-Анджелесе третий месяц. Мартин — больше года.
Голливуд обманул обоих.
Впрочем, с Долли он вел себя довольно сносно. Агентов пленила ее хрупкая красота. К тому же девочка была неглупа, ухоженна, прилично одета. Ее охотно брали на пробы. А после… вежливо указывали на дверь. Красивых — и даже очень красивых — девушек в барах на Santa Monica хватало. Требовались способные.
Мартину было сложнее.
Люди обожают разглядывать в журналах пикантные фото знаменитостей, при этом мало кто симпатизирует папарацци. Надо ли говорить, что сами знаменитости их ненавидят. Иногда боятся. Но от этого ненавидят еще сильнее. И часто дают волю чувствам. Или рукам.
Голливуд — средоточие звезд.
Здесь они дома, на своей территории, в окружении себе подобных — и, значит, папарацци следует вести себя осмотрительно.
Мартину не везло.
Высокий рост и крупные черты лица обращали на себя внимание и хорошо запоминались. Его дважды жестоко били в «Helena» [43], хотя оба раза он был без аппаратуры.
Но главное — «золотой» кадр, на котором можно было бы прославиться и заработать, упорно не давался в руки.
Мартин Вэнн, без сомнения, обладал талантом, но это был талант художника, готового часами искать удачный ракурс, играть бликами света и штрихами теней.
Шальной азарт гончих псов ничуть не беспокоил его душу.
Вдобавок Мартин не любил рисковать. А рисковать приходилось постоянно.
Долли снова затошнило. Ощущение было такое, будто какая-то нечисть корежится в желудке, выворачивая его наизнанку. Молот в голове орудовал с дьявольской силой, норовя проломить череп изнутри. До-До застонала. Сжала виски руками.
Что-то маленькое, но тяжелое выпало из-под ладони, скользнуло по корсажу, звякнуло, булькнуло — и пропало.
— Дерьмо!
Бриллиантовая сережка стоимостью в миллион долларов исчезла в стоке.
Долли отодвинулась от унитаза.
Сняла вторую серьгу, повозилась, расстегивая колье на шее. Украшения на сумму двадцать миллионов долларов были взяты напрокат у Рона Уинстона.
Это была своего рода традиция Голливуда. Причем давняя. С той лишь разницей, что звезды прошлых лет арендовали драгоценности у старого Гарри Уинстона.
Теперь ими распоряжался сын.
Роскошное платье от дома Scherrer и горностаевая пелерина принадлежали, разумеется, ей.
Долли усмехнулась. Старый поганец Бэкуэлл из года в год включал ее в черный список самых безвкусных женщин планеты, но До-До не обижалась. Напротив. С той самой минуты, как Мартин усадил ее на грязный, покрытый трещинами и ржавыми потеками унитаз в своей крохотной квартирке в Бронсоне, главным козырем Долли, ее визитной карточкой, фирменным стилем стал эпатаж.
И стало быть, одеваться нужно было соответственно. Черная облегающая кожа — шорты, топы, бюстье — с откровенным «садо»-оттенком. Корсеты на шнуровке, пышные нижние юбки, черные чулки в сеточку, подвязки — из арсенала парижской кокотки, гадкой девчонки из «Moulin Rouge» [44].
Новое амплуа заставило ее пойти еще дальше.
Но в том же направлении.
И все же фортуна улыбнулась До-До по-настоящему, можно сказать — заключила ее в свои объятия, когда на горизонте появился Ален Луковски.
Странный малый, рожденный в скучном промышленном Детройте. Родители, как предписывалось традицией тамошних мест, работали на корпорацию Форда. Туда же намеревалось отправиться после школы большинство одноклассников. Ален, вне всякого сомнения, был белой вороной — он с детства грезил Голливудом.
Маленький рост, щуплое тело, невыразительное лицо, нездоровая кожа, близорукие глаза, плохая дикция и еще целая дюжина мелких недостатков не оставляли никакой надежды на актерскую карьеру.
Панический страх перед большим скоплением людей, неумение — и нежелание — кем-либо управлять, командовать, вести за собой — исключали возможность прославиться на режиссерском поприще. Но Ален не унывал. Он-то знал, какие фантазии иногда посещают его по ночам, во время бесконечных школьных занятий, одиноких прогулок на пустыре возле дома и особенно — в церкви, где мрачные, многозначительные проповеди отца Станислава — семья была католической — неизменно вызывали меланхолию и тоску.
В семнадцать лет Ален начал писать сценарии. Разумеется, для Голливуда. В двадцать один он наконец добрался до Калифорнии. И… с ужасом понял, что людей, способных оценить его творчество по достоинству, здесь нет.