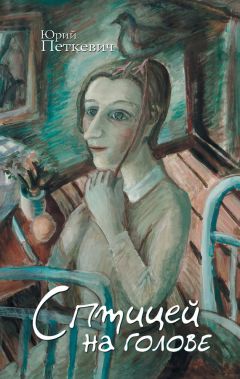— Женись на Улечке, — вдруг начала мама. — На троюродной разрешают жениться. Такую, как она, сейчас не найдешь.
— Почему?
— Ей хоть бы за кого выйти — и она будет счастлива, а с такой и ты будешь счастлив.
— Да, — задумался я. — Не раз замечал — идет по улице навстречу девушка, увидит меня — и переходит на другую сторону. И почему они переходят на другую сторону?
После этого разговора в доме еще тише стало. Невольно я вспомнил, как у нас собирались гости, когда жив был папа, а дядя Вася пел за столом.
— А почему дядя Вася, — спросил я у мамы, — когда пел, закрывал рукой одно ухо?
— Рядом с ним за столом сидела Улечка; ей было стыдно, что отец напился, и она шептала ему, чтобы не пел, и с какой стороны от него Улечка сидела, с той стороны он и закрывал от нее ухо, — объяснила мама. — И кто мог подумать, что он забудет свою покойную Антонину Ивановну и женится на Марусе?
— Не надо об этом! — взмолился я. — Ну сколько можно? Лучше посмотри, — протянул руку к окну, — какой выпал снег!
— А вон идет Улечка! — обрадовалась мама. — Увидела нас в окне, только почему она машет у калитки и не заходит?
Я выскочил в одной рубашке. Солнце выбралось из-за тучи и сияло ярко. В его лучах каждая веточка на кусте сирени, на который лилось с крыши, блестела будто стеклянная. На улице я спросил у Улечки:
— Почему не заходишь в дом?
Она как была в мокрых ботинках — так и не переобула их. Улечка шагнула ко мне, обняла — никогда она раньше меня не обнимала; я даже растерялся. У нее было такое бледное, белое лицо, что я сразу вспомнил родителей утонувшего мальчика. И я обнял Улечку, а она зашептала мне на ухо… Я скорее побежал домой за курткой и шапкой.
— Куда ты? — спросила мама. — Что с тобой?
Я посмотрел на себя в зеркало и не узнал себя.
— Я же вижу, — повторила мама, — что-то случилось.
— Еще сам не знаю, что случилось, — ответил я, выбегая на крыльцо.
Я догнал Улечку у магазина, откуда видно реку. Среди покрытых снегом берегов она, синяя-синяя, казалась черной-черной. Волны накатывали такие, что издали видны были барашки.
— Чего оглядываешься? — спросила Улечка.
— Мама смотрит в окно, — еще раз я оглянулся. — А ты куда? Разве не пойдешь со мной в больницу?
— Я только оттуда, — ответила Улечка. — А теперь к папе…
Линию электропередачи провели через лес, где просека до горизонта, а за дорогой кладбище с церковью, в которую я сегодня ходил с мамой. К вечеру подморозило, и снег под ногами захрустел. Пока я добрался до больницы — уже смеркается; не видно памятников и крестов, но завтра утром, когда взойдет солнце, они вспыхнут в его первых лучах — и зачем надо больницу строить рядом с кладбищем?
У больничных ворот сидели старухи в толстых ватных пальто и продавали цветы. Букеты обвязаны от мороза в марлю, а у некоторых предприимчивых старух стояли столики, где под стеклянными колпаками горели свечи, чтобы цветы не замерзли. Наткнувшись на старух, я подумал — не купить ли цветов, но вовремя одумался.
В больнице поднялся на самый последний этаж, позвонил в железную дверь. Когда мне открыли — пробормотал, к кому я. Медсестра показала на одну из палат, и я осторожно вошел в нее.
— Маруся! — зову.
В больничном синем халате она лежала под одеялом, а голова закутана, как у старухи, в шерстяной платок. Она, кажется, не дышала. Очень робко и чуть ли не с ужасом я дотронулся до нее, не зная — живая ли она; еще раз шепотом позвал — Маруся скорее почувствовала, чем услышала меня, раскрыла глаза и ответила виноватой слабой улыбкой.
— Сейчас встану, — пролепетала. — Мне нельзя резко подниматься. А ты, Гриня, присаживайся. Ты знаешь, — говорит, — я родила мальчика. Подожди, скоро медсестра принесет его…
Нельзя же ей сказать, что она сошла с ума, и я спросил:
— Когда ты родила?
— После того как пошел снег. — Она едва шевелила губами, а на измученном лице опять улыбка. — Возьми стул и сядь. Не стой.
Маруся стаскивает с себя одеяло и тоже садится на кровати. Замечает, что я смотрю с содроганием на ее забинтованные руки, и протягивает их ко мне.
— Зачем ты била стекла? — спрашиваю.
— Знаешь, какой я слышала колокольный звон!
— Ах, да, — спохватился я и достал из сумки продукты.
— Спасибо, — поблагодарила она и улыбнулась кому-то за моей спиной. Я оглянулся. В палате появилась девочка в больничном халате. Маруся протянула ей мою шоколадку. — Угощайся…
— Кто это? — показала на меня девочка.
— Это мой любимый, — прошептала Маруся, и я испугался ее слов.
— Не буду вам мешать. — Девочка с шоколадкой поспешила уйти.
— Я договорилась с ней петь по вечерам в туалете, — шепчет мне на ухо Маруся, и я обнял ее.
— Не обнимай меня, — говорит. — Я как воздушный шар.
Я вспомнил, как ходил с Марусей на речку искать платок, а потом, когда возвращались, она прошептала мне на ухо, что забеременела. И я сейчас ужаснулся, что у нее уже давно что-то с головой, но никто не догадывался. И про мужчину, который подсмотрел, как она голая купалась, а потом на горке улыбался, она выдумала, и про то, как дядя Вася рыдал; но она так об этом рассказывала, что невозможно было не поверить. Тут я вспомнил нарисованные на песке фигурки, которые я сам видел, и — стрелочку с пронзенным сердцем; впрочем, она сама это и нарисовала — решил я.
В палату вдруг вошел дядя Вася. Заметив меня, он не знал, что сказать Марусе; как раз вернулась девочка. Она принесла наклеенную на картонку дешевую бумажную икону из церковной лавки. Девочка подходила к каждой койке и давала поцеловать эту икону — и Маруся, и дядя Вася приложились; самому последнему она поднесла мне. Я увидел, что руки Божьей Матери, которые держат Младенца, вымазаны моим шоколадом, и я, растрогавшись, тоже поцеловал.
Когда девочка убежала, Маруся что-то прошептала на ухо дяде Васе, и я догадался — что; затем она показала на меня.
— Это он — папа!
Дядя Вася оглянулся, а я опустил глаза.
— Как я устала, — вздохнула Маруся и легла в постель. — Мне нельзя так радоваться и волноваться. Как я счастлива!
Улыбаясь, она заснула. Я вышел из палаты вслед за дядей Васей и опомнился на лестничной площадке, когда за нами захлопнули железную дверь и повернули в ней ключом. Мы стали спускаться по лестнице вниз.
— Она выдумала, — сказал я дяде Васе про Марусю. — У меня с ней ничего не было.
И тут я улыбнулся. Не знаю, что обо мне подумал дядя, глядя на мою улыбку до ушей, но я не мог сдержать ее. Навстречу, поднимаясь по лестнице, медсестра несет младенца. Это вот так совпало — мало ли детей в больнице, однако в голове у меня что-то поехало, перевернулось ; чувствую — и я схожу с ума, и, глядя на меня, медсестра показала на ребенка:
— Это — твой?
Я выбежал за дядей Васей на больничный двор, и у меня мороз по коже, когда дядя закрыл рукой одно ухо и запел. Вокруг уже темнотища, за воротами ярко горят свечи под стеклянными колпаками с цветами. Не зря старухи здесь сидят — кто идет в родильное отделение, обязательно покупает цветы. И я вздохнул: как хорошо, что не купил Марусе цветы, а потом подумал: может, и зря, надо было ей купить их…
Из дому папа выходил очень редко после похорон мамы, обычно лежал на кровати или сидел на стульчике, а когда приезжал Костя, говорил ему: иди, возьми чего-нибудь в шкафчике и поешь, но сегодня на папиной кровати постелено было другое покрывало. Костя сразу догадался, что папа умер, а старший брат Гришка не сказал: возьми и поешь, — когда появилась какая-то женщина в мамином платье.
— Что у тебя, Варька, на лице, — показал ей братец. — Иди помойся.
Лицо у нее было чистое, но зеркало вчера разбили, и Варька не могла посмотреться, а умывальник висел во дворе на заборе, и, когда она вышла, братец достал из-за шкафчика бутылку, налил одному себе и выпил. Костя вспомнил, что мама не раз говорила: вот я умру — и всем вам будет плохо, — и он подумал сейчас — она и представить не могла, как будет.
Костя еще раз захотел увидеть мамино платье и вышел вслед за Варькой, но ее во дворе уже не было, а на заборе умывальник не висел. Этой ночью его украли, и Варька пошла умываться на речку. Костя огляделся, и у него заболело сердце, когда узнавал каждую доску на заборе; однако после того, как умер папа, они почернели и поросли мхом. Подмечая все это, когда сердце кровью обливалось, Костя на речку не пошел за маминым платьем и отправился на кладбище.
Пройдя в распахнутые ворота, он сразу не мог сообразить, куда попал, и остановился, не веря глазам. Кладбище находилось в сосновом лесу, но деревья теперь спилили, и у Кости закружилась голова, а может, он сегодня не завтракал и не обедал. Когда все неузнаваемо изменилось, он не смог отыскать родные могилы и, отчаявшись, еще раз вспомнил, что мама говорила, и сейчас его осенило: почему не догадался у нее спросить, как все-таки нужно жить, чтобы не было плохо, и наверняка она подсказала бы.