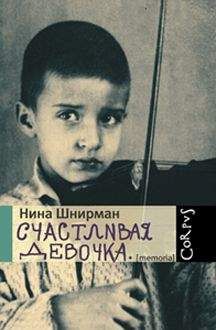Пришли домой. Бабушка говорит: «Дети, сейчас будем полдничать. Моем руки, идём в столовую». А там, оказывается, Мамочка сидит. Я так рада, что она дома!
Сидим, разговариваем, и меня всё время какая-то мысль догоняет, а я её вспомнить не могу, не успеваю. И вдруг сразу вспомнила, что хотела спросить.
— Знаешь, Мамочка, меня сегодня во дворе какая-то женщина обнимала. — И всё рассказываю, как было, и спрашиваю в конце: — Кто она такая? Она тебе привет просила передать!
У Мамочки лицо становится строгое-строгое, она немножко молчит, потом говорит:
— Наверное, это Люба! — А потом спрашивает меня: — Ты можешь её описать?
— Она небольшая, — вспоминаю я, — не толстая, у неё лицо, как у лисы, но не очень хитрой!
Мамочка улыбается — я так рада, что она смеётся, потому что я не люблю, когда у неё строгое лицо, она смеётся и говорит:
— Да, это Люба — она была у нас первой домработницей, с первого месяца твоего рождения и до твоих полутора лет… — И опять у Мамочки стало строгое лицо.
— А что потом? — спрашиваю я.
— А потом… суп с котом! — Мамочка меня щекочет и заканчивает: — И уха из петуха!
Все хохочут. Бабушка лицо руками закрыла — наверное, тоже хохочет.
— Я тебе как-нибудь всё расскажу, — обещает мне Мамочка.
Я смотрю на Бабушку, она отняла руки от лица, и лицо у неё мокрое — значит, она совсем не смеялась. Почему?
— Мамочка, — говорю я очень серьёзно, — расскажи, пожалуйста, сейчас, «как-нибудь» — это совсем непонятно когда, а мне очень надо знать!
— Надо знать! — повторяет Мамочка почему-то грустно, потом вздыхает совсем на себя не похоже и говорит: — Хорошо, расскажу сейчас! Только ты, Нинушенька, постарайся меня не расспрашивать, и так много всего придётся рассказать.
— Не буду, — говорю. И Мамочка рассказывает:
— Люба начала у нас работать, когда тебе был один месяц. По-моему, она тебя полюбила с первого дня, никого к тебе не подпускала, кроме меня, всё, что я ей рассказала о её обязанностях, удивительно точно исполняла, если надо было к тебе подойти тридцать раз, то она тридцать раз мыла руки. Характер у неё был сложный, но мы ей всё прощали за её любовь к тебе. Я только строго, очень строго запретила ей командовать твоей Бабушкой, а то она несколько дней даже не давала ей тебя на руки брать и тебе петь! В общем, она тебя обожала, и в одиннадцать месяцев, когда ты стала ходить, я даже ограничила ваше общение, в год ты уже говорила, Эллочка с тобой с удовольствием разговаривала, а в полтора года мы уже все вместе пели — твоя Бабушка, я, Эллочка и ты!
Мне очень часто хочется у Мамочки спросить, я даже несколько раз икнула, но всё равно не спрашиваю, потому что обещала! Но очень рассердилась, что Люба Бабушке петь не давала несколько дней — это просто безобразие!
— Когда тебе было полтора года, в начале июня тридцать восьмого года, мы с Папой свезли вас — тебя, Бабушку, Эллочку и Любу на дачу. А я вернулась в Москву, потому что у меня в животе уже жила Анночка.
— Как Лёвочка у «библейской красавицы», — не выдерживаю я.
— Да, — улыбается Мамочка, — точно так же! И вот, — продолжает Мамочка, — как только мы с Жоржиком вернулись в Москву, ему пришлось уехать в командировку, и я осталась дома одна. Правда, в соседнем подъезде жили Михлины — ты ведь их помнишь?
— Мамочка, — я даже расстроилась, — ну как я могу их не помнить — тётю Витю и дядю Зяму?!
— Да, — кивает головой Мамочка, — действительно глупый вопрос! Ну, наверное, недели через две, вечером, поздно, кто-то звонит в дверь — я открываю и вздрагиваю: на лестнице стоит Бабушка, и на руках у неё лежишь ты… с закрытыми глазами! Бабушка входит в прихожую, и я спрашиваю: «Мамочка, Нинуша… спит?» — «Нет, — говорит Бабушка, и голос у неё совсем чужой, — она не спит, она без сознания!»
Бабушка вдруг то ли вскрикнула, то ли всхлипнула! Мамочка говорит ей строго: «Мама! Ма-ма!!!» Бабушка сразу головой машет и говорит: «Всё хорошо, дети, всё хорошо!» Я вдруг как-то начинаю волноваться. Мамочка продолжает:
— Оказывается, несколько дней назад Люба пошла с тобой гулять в деревню, недоглядела, ты куда-то убежала, и, когда она тебя нашла, ты сидела около колодца с другими детьми и набивала себе рот песком.
— Какая я была дура! — Я очень на себя рассердилась.
— Нет! — Мамочка говорит очень спокойно, но всё равно мне в груди как-то странно. — Просто ты была очень маленькая. На следующий день после того, как Люба тебя нашла у колодца, ты заболела дизентерией… очень сильно заболела и уже через сутки потеряла сознание. Тогда Бабушка завернула тебя в одеяло и привезла на руках в Москву. Я всю ночь носила тебя — у тебя болел живот, ты стонала, и я грела тебя на груди, а голова твоя была у меня на плече, она была очень горячая!
Мне всё это так странно! Мне кажется, что Мамочка рассказывает это о ком-то другом, ведь я очень здоровая и никогда не болею!
Мамочка задумалась и не говорит. Я глажу её по руке, она вздрагивает и продолжает:
— На следующий день я дозвонилась в Ленинград Мише… дяде Мише, он очень хороший врач. Он сказал: «Завтра пусть кто-нибудь из ваших друзей встретит вечером «Красную стрелу» из Ленинграда, я пришлю прекрасное лекарство от дизентерии, его делают как раз в Ленинграде — это «бактериофаг». И ты, Вавочка, принимай, — сказал он, — потому что ты уже больна!» А я действительно тоже заболела.
— А эта… дизен… — не выдержала я, — что она, хуже ветрянки?
— Хуже! — сказала Мамочка. — Но мы стали принимать лекарство, которое прислал дядя Миша, и… поправились! Нас спас дядя Миша — он всегда был для нас с Жоржиком как отец… и для вас! Всё, Нинуша.
— А куда делась Люба? — удивляюсь я. — Совсем не помню ее.
— После того как ты поправилась, Люба решила уйти от нас, и я её не удерживала.
Бабушка сидит, опять закрыла лицо руками, Мамочка дышит так, как будто мы с ней долго бегали и прыгали.
Мне их очень жалко — зачем они так расстраиваются? Эллочка говорила, что в детстве я была хулиганкой, вот поэтому я, наверное, куда-то убежала и наелась. Ну заболела я и поправилась — зачем так расстраиваться?
Дети ведь, наверное, не умирают? Потому что тогда откуда бы появились взрослые?!
Мы с Мамочкой сидим в музыкальной школе — ждём прослушивания. Эта школа хуже, чем наша музыкалка в Свердловске, но ничего, Мамочка сказала, что здесь тоже есть Большой зал. Меня вызывают, я вхожу. Зал действительно большой, но он меньше свердловского, не такой красивый — нет зеркал, нет красивого потолка, и на большой, очень странной табуретке стоит голова Сталина. Я говорю громко: «Здравствуйте!», и пока подхожу к большому длинному столу, где сидит много народа, а рядом рояль, я думаю: почему здесь стоит голова Сталина, ведь он не музыкант? И не композитор!
За рояль садится немножко важная женщина, она улыбается в мою сторону, но, по-моему, не мне, и говорит:
— Ниночка, судя по документам, ты не новичок в музыке?
— Да! — говорю.
За столом улыбаются и шепчутся.
— Сейчас я сыграю тебе одну вещь, вернее часть её, — она говорит важно и серьёзно, — я её играю, естественно, двумя руками, но там в правой руке звучит очень четкая мелодия, ты сможешь её спеть?
— Конечно смогу, — говорю я.
За столом смеются. Женщина хмурится, думает и начинает играть. Она играет очень красивую вещь. Очень! И грустную, но мелодия там простая. Она сыграла и спрашивает:
— Ты что-нибудь поняла, запомнила? Я могу ещё раз сыграть.
— Я всё запомнила, — говорю и думаю: чего тут запоминать? Мелодия же очень простая!
— Тогда пой! — Она говорит вдруг так неожиданно сердито.
Я пою, её очень приятно петь! Спела. За столом все улыбаются, а женщина с очень большим носом, похожая на большую птицу, улыбается больше всех и говорит:
— Очень хорошо! Ты очень хорошо спела!
Женщина за роялем не улыбается и совсем сердито говорит:
— Тогда спой вот это! — Она нажимает одновременно две ноты — «до» и «ми» первой октавы. Я думаю: она что, дурочка сумасшедшая? Как же я могу сразу две ноты спеть? У меня же нет двойного голоса! Она почему-то на меня сердится, здесь, наверное, есть какая-то хитрость на сообразительность. Я быстро думаю и решаю: наверное, она хочет, чтобы я спела ровно посередине, это будет «ре» — до «до» один тон и до «ми» один тон! Громко и уверенно пою «ре». За столом почти все смеются, женщина за роялем улыбается так, как будто она мне в набивалочки пятьсот набила.
— Теперь спой это, — говорит и ударяет опять одновременно «соль» и «си» первой октавы. Нет, она точно дурочка! И я сразу пою «ля» — как раз посередине. За столом все хохочут, женщина за роялем улыбается вдруг очень противной улыбкой, я начинаю сердиться, и тут из-за стола выходит и подходит к роялю невысокий мужчина в очках. Он тихо говорит что-то женщине, она пожимает плечами, встаёт со стула, идёт к столу, а на стул за роялем садится мужчина. Он говорит: