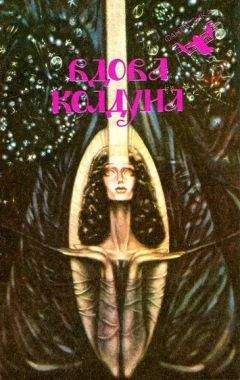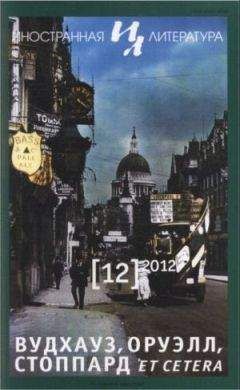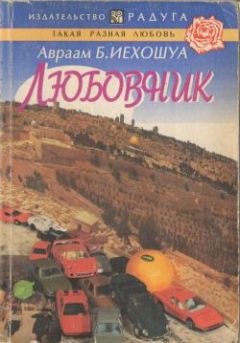— Ну среднего роста… миловидная… Даже не знаю, что еще сказать…
— Почему вы спрашиваете?
— Нет, ничего не напоминает… Впрочем, может…
— Может быть… Но почему вы спрашиваете?
— Вначале мне показалось что-то такое… Выражение лица или улыбка… Может, на старую фотографию, что была у нас дома… Но потом это чувство прошло…
— Матери? Нет не матери… Скорее на вашу, бабушка, очень, очень давнюю…
— Буду приходить сюда снова и снова, — может, все же подстерегу их… Мысль о том, что нам скоро придется собирать пожитки и возвращаться назад — туда, где болота и туманы, а они останутся здесь на берегу изумрудного залива среди старых чудесных оливковых деревьев и будут по-прежнему осквернять наше девственно чистое лоно, — эта мысль, бабушка, не дает мне покоя настолько, что я ни за что не двинусь отсюда пока все-таки не доберусь до них…
— Почему?
— Когда?
— О чем вы говорите?
— С вами? Чего вдруг?
— Как это так? Кто вам сказал?
— Я буду сражаться за Германию здесь… ну хотя бы до тех пор, пока сюда опять не придут англичане…
— Как? Завтра?
— О чем вы говорите?
— Никакой приказ о переводе сюда просто не дойдет…
— Не понимаю… Какой приказ?
— Не может быть… Кто его дал вам на руки?
— Кто его подписал? Кто вообще вправе подписывать такие приказы?
— Покажите мне. Я ничего не понимаю…
— Ничего себе… Вот как высоко вы добрались, бабушка, но почему вы не спросили меня? Ну в чем я перед вами провинился? Почему вы опять вмешиваетесь в мою жизнь?
— Но кому он адресован? Кому вы его передадите?
— Ну да! Покажите мне… Да он падет на колени, увидев эту подпись…
— Покажите… не может быть…
— Нет, еще видно…
— Покажите…
— Чего вы боитесь?
— Он собственноручно расписался? Не может быть… Вы обезумели, бабушка… Вы дошли до него самого… Я не могу поверить…
— Причем тут Заухон?
— Я не хочу никого позорить…
— Но как? Как, бабушка? Вы все-таки безнадежны… Вы не поняли ни слова, не уловили идею… Наоборот, я говорю все время только о нашей свободе… Мы не можем на протяжении всей истории гоняться за каждым из них… Надо дать им возможность самоустраниться… Ведь я пекусь только о нашей бедной Германии, о нашем впавшем в отчаяние фюрере, нашем будущем…
— Не говорите так… это совсем неверно…
— Нет, теперь я понял, вы хотите "положить меня костьми" в обреченном последнем бою за Германию… Так вы послали на смерть Эгона во время той, первой войны… Значит, я был прав… Вы до сих пор не можете примириться с моим существованием… Я думал, что вас привели сюда забота и любовь, думал даже, что, может быть, вы останетесь со мной здесь, на острове. Сейчас я вижу, что вы приехали сорвать меня отсюда. Нет, тому не бывать, я не согласен. Не показывайте, бабушка, никому этот приказ, не передавайте его. Я умоляю вас…
— Оскорбление памяти? Ради Бога, чью это память я оскорбляю?
— Нет, я не отдам вам его пока вы не пообещаете… Уничтожьте… этот документ недействителен, а главное никому не нужен…
— Тогда я разорву его… Оторву и дам вам на память его подпись, а остальное порву на кусочки и развею по ветру…
— Нет, я посмею… Не верну… не верну… Я рву его у вас на глазах с чистым и спокойным сердцем. Я навидался мертвых и не хочу пополнять их ряды. Вы не вправе решать за меня… не вправе. Если вы умертвили Бога, это не значит, что вы можете занять его место. Вы не "Минос, сын-внук Зевса"…
— Если так, я отказываюсь от чести носить это имя… Я появился на свет "на замену", которая ничего никому не смогла заменить, потому что в ваших глазах само творение — это большая ошибка, мир не имеет право на существование, потому что в глубине души, по духу, вы — их породы, ваша меланхолия имеет ту же природу…
— Да не нужна мне доля в поместье. Я не возьму и щепотки земли. Я не желаю участвовать в безумной, заранее обреченной битве, задуманной фюрером… Я остаюсь здесь и не тронусь с этого острова пока сюда не придут англичане. Нет, бабушка, вы не "Минос, сын-внук Зевса", не вам судить меня, вы не имеете права… послушайте…
— Нет послушайте…
— Послушайте, вы обязаны, это из Гомера, которого вы сами прислали мне…
— Подождите, послушайте, как прекрасны слова Одиссея:
В аде узрел я Зевесова мудрого сына Миноса;
Скипетр в деснице держа золотой, там умерших судил он,
Сидя; они же его приговора, кто сидя, кто стоя,
Ждали в пространном с вратами широкими доме Аида.
ПОСТСКРИПТУМ
Эгон Брунер. Известие о том, что самолет, которым летела его бабушка, сбит и упал в море, было передано фельдфебелю Эгону Брунеру лишь спустя несколько дней. Он тяжело переживал ее смерть, потому что был по-своему к ней очень привязан. Особенно больно было ему вспоминать о последней встрече, которая для обоих закончилась удручающе. Тем не менее, в глубине души Эгон был уверен, что, порвав приказ, он поступил правильно.
Несмотря на то, что греки все больше и больше досаждали немцам на Крите, он не отказался от попыток выяснить, в какой деревне или в каком монастыре скрываются женщина с ребенком, но это ему так и не удалось. В октябре, когда английская армия была совсем близко, Эгон Брунер вместе с другими немецкими солдатами был переброшен с Крита на север Италии, а оттуда через Австрию на восточный фронт, весь объятый огнем. В январе 1945 года, в самые холода — а зима в тот год была лютой — он оказался в заброшенной усадьбе возле польского городка Освенцим, будучи прикомандирован санитаром к части, обслуживавшей гарнизон концлагеря, который находился неподалеку. В феврале сорок пятого он попал в плен к русским и пробыл там до января сорок шестого. После освобождения вернулся в поместье деда и в условиях общей неразберихи в оккупированной Германии вел себя как его единственный и полновластный хозяин. Однако, когда из продолжительного плена в Сибири вернулся адвокат семейства Заухон и вскрыл завещание, то оказалось, что право наследования Эгона совсем не так уж безусловно, что для этого он должен отвечать ряду требований, причем нигде в завещании не было упомянуто, что он прямой потомок адмирала. Алчные племянники со стороны «деда-отца» тут же затеяли тяжбу, претендуя на часть наследства, а поскольку Эгон не хотел, чтобы ворошили старое, поднимали историю с его «дезертирством» в первые дни боев на Крите, добирались до его последней встречи с бабкой, то он, после короткого судебного процесса, согласился на компромисс, лишивший его северо-восточных земель поместья.
Тем временем Эгон начал учиться в Гамбургском университете, поначалу на отделении истории древней Греции, но ему никак не давался древнегреческий и он стал специализироваться на истории двадцатого века. В пятидесятых годах он работал учителем истории в средней школе неподалеку от поместья и, поскольку не был женат, то ему хватало времени и на политическую деятельность в рядах либеральной партии. С матерью и сводным братом Эгон поддерживал отношения корректные, но весьма холодные.
В шестидесятые годы, после прихода к власти социал-демократов, Эгон получил ставку в филиале Института Гете в Афинах и через несколько месяцев решился поехать на Крит. Он отпустил бороду, а перед отплытием купил большие черные очки, боясь, что его могут узнать. Его никто не узнал, даже хозяйка магазинчика в Ираклионе, где он покупал табак все три года службы на острове. В доме Мани в Кноссе жило незнакомое ему греческое семейство. Постучать и спросить, что стало с прежними обитателями, он не решился. Он взял напрокат мотоцикл и стал мотаться по узким горным дорогам, стучал в ворота небольших монастырей и спрашивал о еврейке с ребенком, но повсюду ему доверительно сообщали, что евреев на Крите не осталось, все погибли, утонули, судно, на котором их везли, пошло ко дну. Эгона удивляло, что при этом на лицах у местных жителей не появлялось и тени сожаления.
На Крите за время работы в Афинах он побывал еще несколько раз, а однажды, в 1963 году, даже съездил оттуда в Израиль и провел там весьма приятную неделю в качестве гостя тель-авивского филиала Института Гете. Как-то, когда он сидел в кабинете, поджидая коллегу, ему пришло в голову попросить секретаршу-израильтянку поискать в телефонной книге фамилию Мани. Она спросила его, как она пишется — с «алефом» или без него.[35] Эгон, разумеется, понятия не имел и выразил желание узнать и о тех Мани, которые пишутся с «алефом» и о тех, которые обходятся без этой буквы. Увидев, что список, который готовит для него секретарша, становится все длиннее и длиннее, узнав, что люди с такой фамилией разбросаны по всей стране, а один из них даже араб, он отказался от своей затеи.