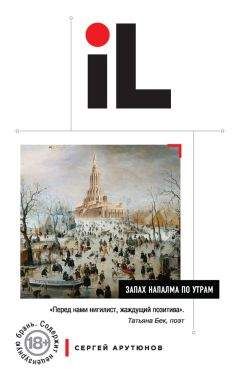– Садись! – раздался протяжный крик от хвоста колонны. Этап грянул кандалами и сел разом так, что земля ухнула. Какие-то отомкнутые побежали к мутному ручью с котелками. Увидев это, атаман привстал.
– Здорово, ребята! – крикнул он белевшей лицами толпе. Все они оборотились на его крик. – Откуда бредете?
Никто не отвечал. Свистел по верхам ветер.
– Кто таков? – издали донесся треснувший голос.
– Человек божий, гуляю с надежей! А ты кто?
– Грымзин зовусь Иван, гренадер этапный. Партию веду, – твердо отдалось из низины.
– А много ли людишек твоих? – подал голос Крутька.
– Много ли, мало, с меня спрос! – ответил без испуга служивый басок лет сорока с лишком.
– Слышь, Грымзин! – взвыл атаман. – Ночь темная, моих людишек попробовать не хотишь ли? Вместе бы лютую и скоротали! Скоротали, да и согрелись бы! Страсть люблю я, когда забавы. На провиянт!
– Указу мне нет с прогулящими ночь коротать! Отходи подобру!
Почти тут же за спиной говорящего загорелся дымный огонь, и стал он виден, кряжистый, в колпаке с орловым шитьем и длинным штыком на шомпольном дрыне.
– Слышь, ты, грымза гренадерская, ты – до обиды не доводи! Тут я закон!
– Закон тебе перекладина! Спробуй подойтить – враз экзерсицию сполню! До самой императрикс доведу, щадить не научен! – В свете пламени было видно, как перепуганные сотские ладили конвойную пушечку против обметавшей склоны ватаги.
– Ишь, гнида царева, я ить спробовать горазд, города брал, остроги, слышь?
– Пугать меня без толку, я солдат государев: где голову сложить, там и славу петь!
Атаман оглянулся на подручных. Те стояли приплясывая от холода, и готовы были броситься на дерзновенца по знаку своего главаря.
– Порадуемся солдатом-то? – дыхнул ему Крутька в самое ухо.
Ветер усилился, Грымзин стоял неподвижно среди пестроты искр. Колодники его сделались массой неразличимой, сжимаясь и увеличиваясь при метавшихся тенях. Солдатики с фитилями встали взводом, застегнув узкие воротники мундиров и обнажив палаши, казавшиеся натертыми воском спичками против громады обступающего мрака.
– Разойди! Разойди, кому говорю! – вдруг заорал атаман своим. Удивленная, чернь его попятилась. Вилы, оглобли, сабли, арканы, серпы – опустились.
В ночь затянули два лагеря разные песни. Кандальники пели о скуке скучаевне, вине, кабаке да добром молодце без памяти, ушкуйники – о вольной волюшке да царском указе, суде да виселице, угодниках да архангелах. Лишь к рассвету, незаметно как, запели одно, про лучину да про думы горькия, надсаживаясь с удовольствием, словно соревнуясь, кто искренней и правдивей нажалуется на судьбу.
Наутро по обе стороны трясины чернели два безобразных пепелища, и следы уводили в разные стороны – на одну каторгу и на другую.
Старый Яунд прекрасно разбирался в самолетах.
Они делились на маленькие Бипля, похожие на пчел, и грозные Монопля, рокотавшие на все небо.
Та Монопля, что качнулась над ним, была больна: ее мотало из стороны в сторону, она задыхалась, ревела и вдруг, истошно булькнув прямо над головой старика, резко стихла, накренилась, засвистела носом и, как каяк с охотниками, зачерпнутый моржовой ластой, упала где-то за торосами.
Старик намотал поводья Отца-Оленя на ялданг, наклонил его в сторону упавшей Монопли, утер слезящиеся глаза рукавом парки и, кряхтя, стал разгоняться под уклон. В щеки ему из-под ног бились две ледяные промоины, от которых разило рыбьей одышкой, но он устоял на ногах и скоро, пройдя в воротца прибрежных глыб, увидел мертвую Моноплю. Она лежала невдалеке от берега на плавучем льду, совершенно бессильная, плашмя. Поодаль, выкинутый из ее носа ударом, у ледяной кромки лежал уткнувшийся в снег кожаный человек со светлыми волосами. Куртка его была коротка и дымилась на спине. В руке человек держал нож, с помощью которого полз по снегу. Рука была выброшена вперед и окаменела от холода и напряжения.
Яунд наклонился к нему, перевернул на спину. От человека пахло Кровью Монопли, горячей и ядовитой. Это был совсем юный парень с детскими голубыми глазами, запорошенными инеем. Яунд попробовал открыть ему рот, разлепил губы, но белоснежные челюсти были сдвинуты насмерть. Пар из них не выходил. Старик покачал головой, сноровисто утоптал площадку и разжег огонь. Расстегнул куртку, обернул парня нагретыми ладонями. Окоченевший не шевелился.
Послышался шорох. Монопля, лежащая на льдине, накренилась и стала соскальзывать в зеленую муть. Высоченное крыло задралось, махнуло рыжей морской звездой и провалилось в закипевшую пузырями бездну.
Пламя опалило иней на ресницах, завило жженой стружкой волосы пилота, но он не дышал. Яунд побил его по плечам, подул в лицо – оно оставалось мертвым. Черты лица суровели, отливая свинцом, цветом Хозяина Становищ.
Оставался бубен.
Несколько ударов предварили камлание. Старик пошел по малому кругу, прислушиваясь к своим ударам. Высоко вспыхнул сполох, ночь отвечала ему. Огонь мигнул, припал к земле, как играющая лиса, и вновь вспыхнул круглым заревом. Духи не спали, духи слышали шамана.
Тот расширял круги. Тонко завыл, потом зарычал. Глаза его пропали с лица, вновь вернулись, щеки, словно распираемые чем-то, прыгнули вбок и втянулись к беззубым челюстям, нос исчез. Шаман входил к духам. Огонь запылал ярко и ровно, шаром.
Сейчас стоял на берегу Ыйчика, Реки. Напротив стоял Поваленный Лес. Старик ударил в бубен, демонстрируя силу над Ыйчиком. Серое небо молчало. По нему медленно, как заливаемое в котел масло, прошла светлая полоса, очищая черную изнанку мира. Горячий воздух ударил в лицо. Старик моргнул. На том берегу стоял Гуолохоон-дагоохоонг, Дух Смерти. Яунд сразу узнал его – у Духа Смерти была только нижняя половина лица, подбородок и челюсть, изъеденная мошкой и червями. В богатую парку его, изукрашенную бисером, уходили ручьи черного гноя. Из получерепа выступала острая дырявая кость, на которую и надо было смотреть. На коленях рядом с духом стояла душа летчика, нагая и белая.
– Я пришел за душой, – прокричал Яунд.
– Как твое имя?
– Эрчиль Тугаскор Ырдыгэ Канзиганиджад зовусь я, сильный утренний шаман, знающий будущее, исцеляющий страхи, увечья, саму смерть! Говорю я с духами, и они слушают меня! Эту молодую душу прошу отдать мне.
– Не знаю я тебя, не слышал я о тебе, не слышу я тебя, не отдам я тебе душу, – отвечал Дух Смерти.
– Тогда я готов бороться!
– Иди и возьми.
Яунд знал, что это законная уловка. Ыйчик убьет его холодом, если он зайдет сразу. Он сделал несколько шагов в Реку. Вода была белой.
Дух прыгнул к нему через Ыйчик, и битва началась. Они метались по белому берегу, петляя и сцепляясь ногами. Эрчиль-Яунд бил духа ногтем, сверкавшим Синей Золой Рассвета, ибо он был Утренний Шаман, а все духи были Ночными. Наконец ему удалось опрокинуть противника.
– Отдай… душу, – проговорил Яунд, переводя дыхание. – Отдай. Я уже победил тебя, ты изнемог, ты слабее меня, но не хочешь признаться. Мне придется покорить тебя, и ты будешь долго болеть, а в мире будет бессмыслица, люди будут страдать без смерти, будет плохо. Сдайся и отдай душу, она тебе ни к чему.
– Ты не знаешь судьбы, утренний теплыш.
– Ты покажешь мне ее. Клянись, что будет так.
Дух с трудом вынул из парки небольшую колоду.
– Вот его судьба. Читай, если сможешь.
Утирая глаза, старик всмотрелся в фигурки, искусно выточенные на коре колоды и под ней.
Вот его дочь Кауич-Елдыз по отцовским следам подходила к юноше и жгла костер. Вот они садились в железную лодку и пыли к Большому Становищу. Вот юноша взлетал от Кауич ввысь, вот она сама сидела в Светлом и Прозрачном Чуме вместе с другими, листая священные свитки, вот ласкала новорожденного, ехала в блестящем колесном жуке без верха, и все Большое Становище радовалось ее судьбе. Парень стоял рядом с ней, вокруг все колыхалось от рыжих звезд. Потом ему вручали дорогую янгу, чтобы его имя вспоминали. Чум, где это происходило, ослеплял и радовал, но человек, который шел с янгой, был Шаманом Ночи. Это взволновало Яунда. Шаман Ночи, чудилось ему, что-то прошептал, надевая янгу парню на грудь.
Он видел, как на Большое Стойбище опускалась ночь, и юноша, мотнувший головой, отказавшись от чего-то, выходил из своего чума под крики жены, уводимый слугами Шамана, и это было навсегда. Те же, но похожие на предыдущих, приходили за его дочерью, за Кауич-Елдыз, уводили и ее в ночь.
Он видел испуг своих внуков. Видел смерть юноши от маленького подземного духа. Видел страдания Кауич невдалеке от родового стойбища, без хлеба, на бессмысленной и тяжелой работе в лесу.
Внуки его росли в одном из малых стойбищ, прочных, но скудных, сидели в светлых чумах со священными свитками. Рыбы у них почти не было, мяса тоже. Но высоко впереди открывался какой-то свет. Да, над ними было светло. Почти все время – светло. Позади света не было.