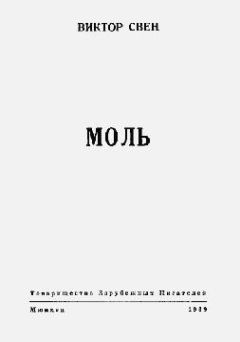Понять это очень трудно. В самом деле, кто заглянет в душу Суходолова и кто объяснит, почему он подошел к старику и спросил:
— Значит, выгнала-таки вас из каморки пролетарка Мешкова?
Воскресенский с трудом поднял остывшие глаза и узнал Суходолова.
— Пришлось уйти. А вот куда идти — не знаю. И стою тут. Словно задачу решаю.
— И давно стоите?
Воскресенский переступил с ноги на ногу. Из его рваных красноармейских ботинок потекла грязная жижа.
— Да говорите хоть что-нибудь! — крикнул Суходолов, широко открытыми глазами следя, как, подобно живым червям, из ботинок Воскресенского выползает грязь. — Отвечайте: когда вас выкинула пролетарка Мешкова?
Продолжая топтаться на месте, старик посмотрел вокруг себя, потом скользнул взглядом по серому небу и убедившись, что всё осталось прежним, сказал:
— Со вчерашнего дня. Я сам ушел. Они все хотели.
— Кто хотел? Мешкова?
— Все. Чужой я им. Даже кажется: я сам себе чужой.
В груди Суходолова что-то оборвалось. Не выдержав, он обнял старика и прошептал:
— Ты мне не чужой.
Воскресенский с удивлением рассматривал Суходолова, вдруг ставшего до странности близким своими широкими плечами и простым лицом. Всё, и плечи его и лицо, Воскресенский воспринимал как что-то радостное, уверенное, позволяющее думать настоящими мыслями и говорить правдивыми словами.
— Я вам не чужой? — спросил он.
— Вы мой… совсем, совсем родной, — торопливо ответил Суходолов, — близкий. У меня на Тамбовщине отец. Как бы это сказать? Что-то такое легло между мною и отцом. Окончательно. Правда легла между нами, и правда навсегда отгородила меня от отца. Назад мне пути нет. И потому вы для меня, как отец.
О многом еще говорил Суходолов, о таком большом и тяжелом, что теперь уже не Воскресенский казался потерянным и конченным человеком. Он как будто окреп, глаза его наполнились такой глубокой мыслью, что, — это уже подумал Суходолов, — стоит лишь Воскресенскому начать рассказывать — всё мутное и спорное сразу же прояснится.
Боясь упустить возможность большого и нужного разговора, Суходолов привел Воскресенского в покинутую им темную и холодную каморку той коммунальной квартиры, в которой верховодила пролетарка Мешкова.
На шорох выглянула Мешкова, но заметив Суходолова, тут же и без звука шмыгнула в свою закуту.
В каморке, кроме сбитого из старых досок топчана, ничего не было.
— Тут где-то коптилка, — сказал Воскресенский.
Суходолов нашел коптилку, поправил фитилек и зажег его. При свете тусклого огонька он увидел на лице Воскресенского глубокие и очень спокойные морщины.
— Я всё понял, — разглядывая эти морщины, говорил Суходолов, — разобрался. В самом себе. Я, знаете, я, ведь, за ними сознательно пошел. С верой. Так, как идет слепой за поводырем. Куда поводырь — туда и я. Что поводырь скажет, то я исполнял. А потом… не сразу… мои глаза слепые открывались и открывались, и увидел я, что поводырь мой сплошь в сифилисе. Сволочь, одним словом, поводырь, и вел он меня и всех таких, как я, слепых, против отца, брата, против сына. И я шел. И не год, и не два. Долго шел. Вот это и страшно. Страшно, что у других глаза не открываются. А откроются ли когда — не знаю. Вот в чем страх.
Пока обо всем этом говорил Суходолов, фитилек коптилки обгорел, и теперь уже трудно было разобрать, куда смотрит старик.
— Как же дальше быть? И куда повернется дело? — спросил Суходолов.
Старик печально качнул головой.
— Неужто так и дальше? Против того, чем жив человек?
— Я не говорю о вас, — тихо ответил Воскресенский. — О тех говорю, которые остались такими, каким вы были, Они уничтожают прошлое. Рушат всё. И детей своих будут воспитывать в ненависти к прошлому, и это прошлое станут топить в человеческой крови. Что с них возьмешь? Правда, потом, несколько позже, они непоследовательно и глупо возьмутся за лозунги любить прошлое. Будут лживо восхищаться древнерусским зодчеством, прошлой литературой, вспомнят церковку князя Суздальского, начнут требовать уважения к Юрию Долгорукому и Александру Невскому, примутся рассуждать о необходимости беречь «исторические памятники» и народные традиции, хранить бережно то, что так легко и просто сберегало, любило, возводило то самое прошлое, которое они с беспощадностью уничтожали. И вот что получится: призывая уважать, любить всё это — они будут сознавать, что никто словам их не верит, что все их проповеди — это же вывернутая наизнанку та же самая, начатая ими, ненависть к прошлому, без которой они дальше и не могут жить. Когда я сегодня смотрю на ваших комсомольцев и пионеров, по вашей воле ставших точной копией вас же самих, этих комсомольцев я не обвиняю. Они тут ни при чем. Среда и время формируют человека. Среда — это те, с кем вы были. А время? Ленинское. Среда и время создали вас и детей ваших. И если они, эти дети, будут продолжать ваше дело, и воспитывать своих детей для продолжения беспощадности, что ж, свою историческую миссию вы завершите с исключительной талантливостью.
— Выходит: надежды нет? — спросил Суходолов. — Закруглилось, значит, как в приговоре тройки.
— А вы, — тут старик потер свои худые руки, словно смывая с них грязь, — вы что же думаете? Своим детям вы оставили постыдную историю. Руины. Нет, нет! — воскликнул старик. — Я говорю не о руинах на месте древних святынь. Я говорю о руинах душевных, моральных. Собор, при желании, можно как-то восстановить. В год… В три года… В пять лет… Душу человеческую — восстановить трудно. Для этого нужен честный труд многих, очень многих и, главное, честных поколений.
— Не доживем?
— Не доживем, — покорно согласился Воскресенский. — Поздно мечтать об этом.
Может быть потому, что старик глубоко вздохнул, коптилка — еле-еле мигавшая — погасла.
В темной каморке наступила тишина.
Эта тишина, считает нужным отметить Автор, заставила пролетарку Мешкову не спать до рассвета. Ей, конечно, не терпелось приложить ухо к худой дверке каморки и узнать, о чем это большой и ответственный товарищ Суходолов может говорить с классово-чуждой личностью?
Но пролетарка Мешкова была «идейной и сознательной». На риск она не пошла. Даже когда около шести часов утра послышались удаляющиеся шаги Суходолова, она еще долго и терпеливо сидела, и только убедившись, что Суходолов больше не вернется, зажгла огарок свечи и со свечой заглянула в темную, безоконную каморку старика.
Старик лежал на топчане, лицом вверх, с открытыми глазами. Глаза были большие, живые и до того чистые, что пролетарке Мешковой захотелось плюнуть в них и сказать старику такое подлое слово, от которого бы он задохнулся.
С этой целью она и шагнула к лежащему, но сразу же в страхе отшатнулась, заметив в стариковских зрачках колеблющееся отражение огонька свечи.
Пятясь, она вышла из каморки, и только попав к себе, в свою закуту, взвизгнула:
— У, гнида проклятая!
Автор об этой злобе пролетарки Мешковой считает нужным напомнить хотя бы потому, что через несколько часов, а точнее: в девять утра того воскресенья, с такой же идейной злобой говорил Председатель о Суходолове, изменнике и предателе, который должен быть найден, доставлен в подвал Лубянки и уничтожен.
Решкову и всем присутствовавшим на этом особом заседании в кабинете Председателя, было ясно: Суходолов списан в расход.
Когда заседание окончилось и все поднялись с мест, Председатель кивнул Решкову:
— Ты останьсь. Поговорим.
Громадный кабинет опустел.
— Садись! — приказал Председатель и дернул бородкой.
— Видишь ли, тебе надо взяться за операцию. К тому же…
— Председатель усмехнулся, — Суходолов в дружках у тебя состоял, так что и счет у тебя с ним отдельный. Действуй осторожно. Самого Суходолова, как только нападешь на след, сразу не трогай. Ликвидировать его будем потом. Ну, да ты знаешь: где-то около нас, вот тут рядом где-то, сидит информатор Суходолова. Информатор, понимаешь, для нас опаснее самого Суходолова. Да что тебе объяснять! — Председатель стукнул кулаком по столу. — Главное — раскрыть информатора! Отсюда и цель операции: любой ценой обнаружить провокатора-информатора. Это главное! И потому ни минутой раньше нельзя трогать Суходолова. Ясно? Вопросов нет?
— Нет, — ответил Решков, — всё ясно. По следу надо пустить Семыхина.
— Семыхина? — спросил Председатель. — Что ж. Не плохо. Семыхин, конечно, сволочь, но бо-о-ольшой мастер работать в темную.
Тут Автор пропускает несколько месяцев и подходит к концу июля 1922 года, когда Решков получил от Семыхина сообщение. Семыхин подробно и с хвастовством изложил свои переживания и похождения, завершившиеся тем, что удалось-таки установить: Суходолов спрятался в Киеве, в одном из тайников Подола.