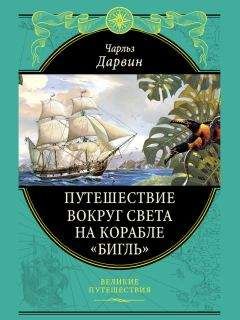Пройдя немного, Ковригин увидел остановку троллейбуса № 1. На боку подошедшей электрической машины был назван маршрут: "Вокзал — Театр имени Верещагина — гостиница "Ваше императорское величество" — Плотина — Запрудье". "То, что надо, — подумал Ковригин.
Но прежде, чем отправиться в центр Синежтура (до Плотины он решил нынче не прогуливаться, а дойти лишь до гостиниц, получить там номер и стать свободно-независимым обитателем чуждого ему пока города), он добрался до Каменной бабы, имевшей постоянное место проживания на привокзальной площади. Все известные Ковригину каменные бабы были связаны со степью, с кочевниками и с языческими взглядами на мироздание. В Присаяньи, откуда двинулись в Европу и гунны, и, возможно, скифы, и монголы, и другие многие языки, он наблюдал в Абакане целый сад каменных баб, свезённых из хакасских и минусинских степей. Все эти бабы были коренасты, тяжеловесны, раскосы и состояли из двух шаровидных объемов — головы и туловища. Какие кочевники и зачем притаскивались к здешнему Блюдцу, Ковригину не было ведомо. Но привокзальная Баба, размещенная на гранитном пьедестале с изломами, явно державшем на себе в иные времена другие тела, ноги или даже копыта, к степным бабам отношения не имела. Напомнила она (при первом взгляде Ковригина), хотя бы фигурой и одеянием — условной туникой, Афродиту или Венеру, а материалом её создателем был выбран мрамор. При обходе же привокзальной красавицы Ковригин чуть ли не воскликнул: "Ба! Да это же Каллипига! Прекраснозадая! Афродита из Неаполя!" Мысль о Каллипиге вызвал именно обнажённый мраморный зад. Впрочем, хранящаяся в музее вблизи Везувия у тиренских вод Каллипига с изяществом приподнимала сложную драпировку, открывая прекрасные ягодные места, да и голову склоняла вправо, оглядывая свои прелести. Синежтурская же Афродита или Венера (кстати, без всяких милосских потерь, то есть с неискалеченными руками) голову держала прямо, её совершенно не волновало, что сзади туника её не достаёт и до талии. Дождь, как в Мантурове, не лил, а моросил меленько, и то с передыхами, но небо было уже мрачным, почти что сумеречным, и Ковригин решил продолжить изучение Бабы с её площадью в более светлые часы, да и заглянув прежде в какие-нибудь краеведческие публикации. Удивили его выцарапанные на граните пьедестала слова "Атлантида", "Хаос" и "Журино" (что-то связано было у него с каким-то Журиным), а рядом с ними — гвоздём созданное изображение некоего земноводного страшилы с шестью лягушачьими лапами. Удивительным казалось и то, что матерные выражения не были граниту доверены.
От Каменной Бабы Ковригин рассмотрел вокзал. Вот уж вокзал-то был точно тяжеловесен, как степные шары в саду Абаканского музея. Возвели его, видимо, в сороковые или пятидесятые годы в пору провинциально-сталинского ампира. И дома, хороводом вставшие вокруг площади (ещё одно Блюдце), в три-четыре этажа, были громоздкими крепышами. Не исключено, что строили их пленные немцы, привыкшие к собственному имперскому стилю. Мрачноватой показалась и улица имени металлурга Амосова, по которой развозил людей троллейбус № 1.
Ковригин пожалел, что не оставил в камере на сохранение чемодан. Но вспомнил, что ни в одном из открываемых им городов ознакомительные прогулки не облегчал. А во Львове, скажем, ещё с русским языком в разговорах, до центра и гостиниц было километров восемь, там он, правда, не выдержал скуки банального района, сел на трамвай и проехал несколько остановок. Покатая (шла ведь к донышку Блюдца) улица Амосова привела его к желтоватым четырёхэтажным домам, напомнившим Ковригину Соцгорода в Запорожье и Кривом Роге. И ещё в Новокузнецке. "Через четыре года здесь будет город-сад…" Впрочем, пока Ковригин в Синежтуре деревьев не наблюдал. Но, пройдя квартал, наконец увидел их. Жестянка на боку углового дома сообщала: "Бульвар имени Маяковского". Бульвар не бульвар, а — рядка два сосен и между ними валуны. При подъезде к Синежтуру Ковригин увидел именно не плотную щетину северного леса, а как бы сами по себе стоявшие в задумчивости сосны, или компании сосен, росшие вольно, в живописном беспорядке, и не было между ними кустарникового подроста или следов вырубок, лишь там и тут торчали диковинных форм валуны либо скалы светло-кофейной окраски ("останцы…" — произнесли у соседнего окна в вагонном коридоре). От ледника, что ли, останцы? Или от гор, разрушенных временем, водой и ветром? Надо было бы выяснить… Пожалуй, и бульвар Маяковского выглядел останцем. Останцем прежних синежтурских окрестностей, стиснутых теперь кирпичными строениями. Асфальтовые тропинки в нём кривились, стояли цветные скамейки, детишки тыкали лопатками в жёлтую крупу песочниц. И не менее, чем валунов, было на бульваре афишных тумб и столбов.
На скамейку под тумбой Ковригин и уселся. "Маринкина башня" и здесь призывала граждан посетить театр имени Верещагина. Взгляд на "собственную" афишу Ковригиным был брошен скользящий и будто бы незаинтересованно-досужий. Подробности, даже и фамилии, а перечислялись роли и актёры, создателей "Маринкиной башни" знать Ковригин не желал. Чтобы не возбудить в себе преждевременных мыслей и уж тем более преждевременных надежд и упований. А вот другие объявления, надо признать, исполненные броско и стильно, притом — с тактом и с иронией, иные — под "ярмарочно-балаганные", иные — под "цирковые" начала двадцатого века, иные — с орнаментами и линиями "модерна", рассматривал с благорасположением. Правда, наткнувшись на слова: "Звезда театра и кино, нар. арт. РФ Наталья Свиридова", глаза от красочного листка моментально отвёл. То ли в испуге. То ли в неудовольствии. Не хватало ещё столкнуться с Натали в Синежтуре! Ехал, ехал и приехал! Нате вам — и эта здесь! Но сейчас же понял, что и успокаиваться нет нужды. Разволновала его неожиданность географического совпадения. Сама же Натали как была для него вдалеке и заморожена, так и осталась далёкой и ледяной. И Ковригин стал знакомиться с рекламой французского ресторана "Лягушки".
Прямо Тулуз-Лотрек! Мысль об этом вызвало цветное пятно рекламы. Неплохие графики и шрифтовики работают в Синежтуре для тумб-зазывал, опять отметил Ковригин. Откуда здесь они? Текст же рекламы сообщал публике, что в заведении месье Жакоба, уроженца Марселя и Сан-Тропе, изящнейшая кухня южных исторических провинций Франции ("причем тогда лягушки? — подумал Ковригин. — Там же хватает омаров, креветок и устриц"). Перечислялись сыры и вина, наилучшие в мире. Были обещаны трюфели, только что отрытые в краснозёмах Гаскони бойцовыми рылами свиней охотничьих пород. Далее следовало: "Ежедневно! Турниры французской борьбы в оливковом масле! Шахматные блиц-партии с шарм-хотессами на раздевание! Новинка — партии калмыкского шахбокса! Сеансы ясновидящих мадемуазелей от богемных мансард Монмартра! Блуждание с факельной подсветкой (коктейли — в нишах) по лабиринтам Минотавра и выход к Падающей башне! В гиды могут быть приглашены, согласно тарифу (принимается во внимание наполненность кошелька и цифры на карточках "Альфа Банка"), призраки тонкошеей Анны Болейн и жаркой брюнетки Марины Мнишек!"
Ковригин засомневался. Поначалу он решил из любопытства в "Лягушки" сходить. Если оголодает и деваться будет некуда. Но все эти удовольствия в нагрузку к меню — оливковые борцы, раздевания при шахматах и калмыкских шахбоксах, ясновидящие мадемуазели и в особенности тарифные призраки Болейн и Марины Мнишек поколебали его доверие к существенному в любом ресторане — к яствам и напиткам. Не начнутся ли у него, Ковригина, сразу же или, в лучшем случае, — к утру колики и рвоты, не придется ли ему после французских угощений пить английскую соль? А может, месье Жакоб был вовсе и не Жакоб (уж имя больно банально-водевильное), и не француз из Марселя и Сан-Тропе, а отечественный прыщ из шоу-бизнеса, прогоревший продюсер какого-нибудь очередного Бюлана с лапшой во рту и теперь отправившийся со своей шушерой и оливковым маслом на платиновые и малахитовые залежи Синежтура? Не хотелось бы так думать…
Ковригин вернулся вниманием к афише "Маринкиной башни". Выходило, что Маринкин спектакль самый что ни на есть репертуарный. Сегодня идёт. И завтра, и послезавтра его будут давать. "Завтра схожу, — подумал Ковригин. — Сразу же, с дороги, что-то не тянет… И надо привыкнуть к Синежтуру. А в среду — сяду на поезд и — в Москву! Или на самолёт, как карта ляжет". Ковригин словно был напуган Синежтуром, в особенности его лабиринтом и призраками Болейн и Марины Мнишек. Впрочем, прежде чем улепётывать отсюда, следовало выбить и получить командировочные и суточные от скупердяя Дувакина. А для этого надо было открыть здесь счёт и сообщить Дувакину его номер.
На этот раз Ковригин запомнил фамилии режиссёра, исполнителей главных ролей и художника, то есть художницы спектакля, и у него возникло странное желание. Хорошо бы, подумал Ковригин, художница эта, естественно, не страхолюдина, оказалась бы и автором понравившихся ему рекламных плакатов. Блажь возникла неожиданная и пустая. А может, и не блажь, а упование. На то, что художница эта, Антонова по фамилии, сверканий меди на сцене не допустит.