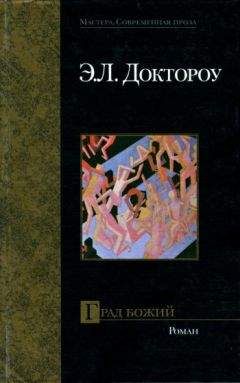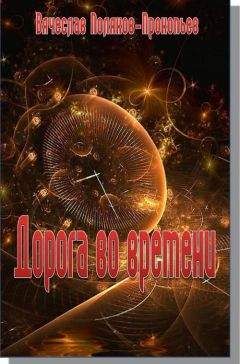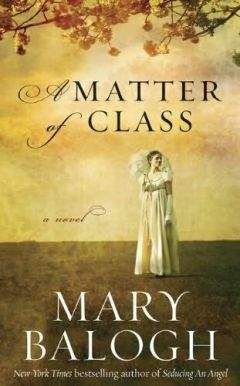Итак, проблему можно сформулировать следующим образом: имеется солипсическое сознание, без которого мир не существует, однако само оно до самых своих границ заполнено этим миром и, следовательно, не может выйти за его пределы, чтобы наблюдать в нем себя самое. Этим парадоксом я предлагаю постулировать слияние реального мира, который существует независимо от моего восприятия, и мира, который может существовать исключительно в качестве восприятия моего разума. И поскольку я дарю и вам правила устройства этого солипсического царства всего сущего, постольку мы имеем парадокс в трех измерениях того, что можно назвать демократическим солипсизмом: каждый из нас является исключительным, единственным в своем роде правителем мира, зависящим от нашего понимания существования… но никто из нас не может быть различим иначе, чем как субъект сознания других.
По общему признанию, эта странная и, по-видимому, противоречивая идея принадлежит Витгенштейну, который собирался сорвать с философии весь ее бессмысленный метафизический нонсенс.
Правда, я знаю, что вы, американцы, одержимы идеей Бога. Но я своей лингвистической игрой хочу сказать вам нечто очень простое: возможно, самое поэтическое описание нашего измученного человеческого сознания, данного от мира, но не содержащегося в нем, можно отыскать в толковании термина первородный грех.
Как я утверждал в своем «Tractatus Logico-Philosophcus», обсуждая идею бессмертия человеческой души…
6.4312. Разрешается ли загадка тем фактом, что я живу вечно? Не является ли эта вечная жизнь столь же загадочной, как и наша актуальная жизнь? Решение загадки о пространстве и времени находится вне пространства и времени…
6.44. Тайной является не то, каким образом мир есть, а то, что он вообще есть…
6.52. Мы чувствуем, что даже если будут получены ответы на все научные вопросы, то проблема жизни останется вовсе не тронутой. Конечно, тогда не останется больше вопросов, и в этом-то и будет заключаться ответ.
В скобках прошу вас учесть, что эта работа была написана очень молодым человеком в окопах австрийской армии во время Первой мировой войны, когда я вызывался на самые опасные боевые задания, надеясь быть убитым. Страницы, на которых я писал, были покрыты грязью, а карандаш в моей руке дрожал. Огни осветительных ракет и вспышки снарядных разрывов позволяли мне видеть, что я писал. Под огнем я испытывал животный страх, но, дрожа от него, я определил мужество — и принял для себя такое определение — как убеждение, что истинное творение мира, душа, миром сотворенная, в конечном итоге не может быть разрушена никакими внешними обстоятельствами.
* * *
Биография автора
Маленький мальчик Эверетт появился на свет
в похожей на кирпич больнице
на пересечении Иден-авеню и Моррис-авеню в Бронксе,
районе Нью-Йорка,
в году 19…
Я был криклив и упрям — первая из многих неприятностей,
доставленных мною моей матери Рут,
решительной женщине и одаренной пианистке,
которая много раньше влюбилась
в мечтателя —
это был ее первый опыт близкого общения
с несносной породой мужчин,
с пылким курсантом военно-морского
училища на Гарлем-Ривер, а именно, с моим отцом Беном,
который однажды во время Первой войны перемахнул
через забор
и вломился в курсантскую столовую, где моя мать
разносила кофе и салаку
сидящим за столами салагам, и, рискуя быть побитым
в своей вызывающе белой
форме,
следил, чтобы никто не смел приставать к официантке.
Это был, конечно же, роман, сумбурный
и отчасти предопределенный —
отец и мать вместе учились в школе.
Как-то раз он увидел, как она
ест мороженое в обществе одного парня. Дело было вечером,
небо, еще светлое, нависало
над темными кронами деревьев Кротонского парка.
Он подошел к парочке, хотя сам и не собирался
приглашать девушку на свидание, и, приняв
угрожающую позу, заявил,
что задаст кавалеру трепку, если тот попробует
обидеть мою будущую мать Рут.
Отец безнадежно испортил свидание своим наглым,
собственническим отношением.
Случилось это в Бронксе, в начале столетия,
когда улицы были еще широкими и новыми, а в парках росли
молодые зеленые деревья.
Улицы были застроены красными кирпичными,
облицованными по углам гранитом
домами с чистенькими маленькими двориками —
предел мечтаний для семей иммигрантов, сумевших вырваться
из трущоб Нижнего Ист-Сайда. Это галантное
ухаживание моего отца Бена
не имело, естественно, осознанной цели
отдать свои гены,
хотя, конечно, Рут вышла за него замуж,
и он отдал-таки свои гены
моему брату Рональду, появившемуся на свет в 19… году,
и мне — восемь с половиной лет спустя,
в год Великой депрессии, когда немногие семьи
могли позволить себе иметь детей,
и уж меньше всех Бен и Рут,
а ведь у них, как я теперь понимаю, в середине
или в конце двадцатых родился еще
и мертвый ребенок,
может быть, мой брат,
а может быть, и сестра, которая гуляла бы со мной в парке,
проникнутая чувством ответственности,
унаследованным от матери,
водила бы меня к фонтанчику, если бы я захотел пить.
Все же это была сестра, как призналась мне мать,
когда я был уже взрослым,
дочь, желанная для Рут дочь,
которая скрасила бы одиночество,
от которого страдала мать, живя среди самцов.
Я рассказываю об этих сугубо личных вещах
только для того, чтобы точно
очертить место и время моего появления на свет и
утвердить свое, пусть и призрачное, право говорить от лица века,
быть скрытым наблюдателем,
далеким до поры от великих и ужасных исторических потрясений,
ибо для каждого из нас когда-нибудь
приходит Время, не так ли?
Однако сейчас я могу признать, что мне трудно вообразить отца
молодым, горячим, отважным и упрямым.
Детство принадлежало только мне или моему
брату, это была наша собственность,
к которой отец не имел ни малейшего отношения,
в моей памяти отец навсегда остался
серьезным солидным человеком, сидящим в кресле возле радиоприемника,
слушающим сводки с фронтов Второй мировой войны
и одновременно читающим такие же сводки
в вечерней газете, которую он держал,
словно полог армейской палатки.
Отец умер сорок лет назад,
и я с болью могу признать, что чем дальше в прошлое уходит его смерть,
тем более расплывчатым становится он в моей памяти.
Личность исчезает или становится более сложной,
мы остаемся наедине с твердо установленным, но невидимым фактом:
в памяти живет дух, лишившийся подверженного слабостям характера,
хотя сам человек тоже был им подвержен; какие-то вещи он делал правильно, какие-то нет,
но теперь он существует только как голая душа, которая выстрадала жизнь
и растворилась в ней.
Но я храню и оберегаю в своем воображении его образ
вопреки печальной правде лишенной облика души,
и это служит мне слабым утешением,
ибо сверкающая и переливающаяся яркими красками жизнь
не может вечно сохраняться образами памяти
во всей своей богатой уникальности.
Он играл в теннис в белых парусиновых брюках.
У меня есть фотография,
сделанная старой портативной «лейкой» того времени,
объектив которой,
похожий на мехи аккордеона,
выдвигался вперед по двум направляющим штырям.
Рука ловко согнута в локте,
тело устремлено вперед,
белая рубашка с длинными рукавами,
темные волосы, темные усы,
вся фигура у дальней стороны сетки,
кадр почти целиком заполнен полем корта,
общественного корта с покрытием из красной глины.
В углу снимка видна спина неизвестного анонимного соперника,
навечно застывшего в отчаянной погоне за мячом.
Дальний фон — многоквартирные дома Бронкса,
выкрашенные сепией
по моде 1925 года.
Моя мать тоже играла в теннис.
В тридцатые годы они вместе ходили на корты,
а я стоял за проволочной сеткой и канючил,
дожидаясь своей очереди.
Она похоронена рядом с ним на кладбище
Бет-Эль в Нью-Джерси.
Но, пережив отца на тридцать семь лет,
мать навеки запечатлелась в моей памяти.
Последний раз она встречала свой день рождения
в отделении интенсивной терапии, когда ее только что
отключили от аппарата искусственного дыхания.
Поздравляю тебя, мама, сказал я,
тебе сегодня стукнуло девяносто пять.
Она подняла бровь, открыла глаз
и едва заметно улыбнулась —