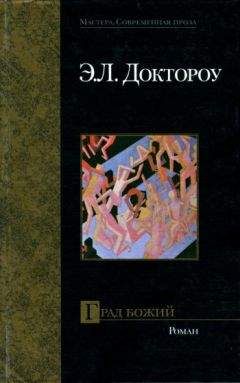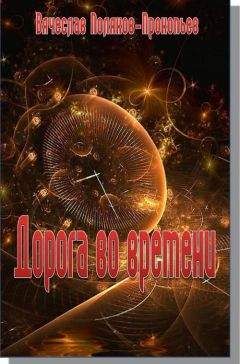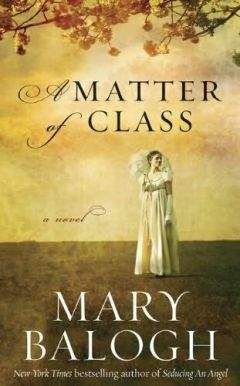поднимать с мест всех зрителей стадиона,
кто кроме него умел так обходить соперников,
высоко поднимая ноги, совершая
головокружительные прыжки и ни на минуту
не упуская мяч, который
он с поистине комической интеллигентностью
мог удерживать неправдоподобно долго.
Я не могу утверждать этого наверняка,
но мне кажется, что в эти моменты
отец вспоминал свои собственные перебежки под огнем,
когда от его умения зависело,
останется он жив или нет,
и искал успокоения от своих страшных воспоминаний в эстетической
абстракции футбола с его разметкой и правилами,
которые не допускали тяжких травм
или непредсказуемых последствий.
Как бы то ни было, он принес войскам
приказ отступить, но его давно
опередили — солдаты бежали с передовой той самой дорогой,
которой пришел к окопам отец.
В окопах лежали сложенные кучами мертвецы,
словно утешавшие друг друга
в неизбывной скорби по своим ранам,
другие мертвецы,
с вырванными взрывом внутренностями,
стояли с примкнутыми штыками в полной
готовности отразить атаку.
Отец продвигался по траншее в поисках кого-нибудь,
кому можно было бы передать приказ,
но находил только крыс, шнырявших в дерьме и грязи
среди кусков галет и оторванных конечностей.
При его приближении они разлетались
в разные стороны,
словно маленькие серые снаряды.
Он споткнулся о труп молодого солдата,
лежавшего с дулом ружья во рту,
голова застыла в блестящей луже грязи
и окровавленного мозга.
Отец остановился и опустился на колени,
впервые с тех пор, как прибыл во Францию,
оказавшись рядом с тем, кого можно оплакать.
Парень не смог выдержать
беспрерывную, в течение многих часов канонаду, которую
сам отец, постоянно занятый делом, едва слышал.
Но теперь истина открылась ему во всей своей наготе, словно
он был наследником мертвого парня.
Чудовищный грохот, механический,
но нотками человеческого голоса,
громоподобный рев колоссальной, бесстыдно жестокой,
грубой и мстительной ярости, который показался
ему воплощением первобытной,
первородной речи, когда в окопе
его накрыл танк;
покрытые грязью гусеницы
бешено вращались в воздухе
над его головой, и в этом скрежещущем чавкающем
реве края окопа начали осыпаться,
а из темноты на его голову густо посыпались
капли машинного масла.
Теперь, друзья, я знаю, что это
Древняя История, такая же древняя,
как и наши учителя в средней школе, к которым
мы относимся с такой же снисходительностью.
Я твердо это знаю.
Мне ведомо, что кости Первой мировой войны
впечатаны в тектонические плиты под тяжестью других костей, захороненных выше.
Пляжи Европы усеяны покрытыми песком костями,
и крестьяне Европы
лемехами своих плугов вытаскивают из земли
позвоночные столбы убитых.
Реки Европы светятся по ночам
от свободных радикалов кальция в их водах,
археологи из университетских городов Европы
находят под плитами мостовых черепа в касках.
Но послушайте же, что я вам скажу.
Вся история существует только для того,
чтобы сейчас можно было налить пиво в ваши кружки.
Она дарит грустной даме в конце стойки ее пачку «Мальборо»,
придает зеркалу, в котором отражаются бутылки,
его тусклость, и не случайно она освещает нас синим светом неона,
внушая нам чувство иллюзорной свободы.
Сколько лет было тогда отцу —
двадцать четыре, двадцать пять?
Вот он, человек, беззаветно любящий море, бредет,
утопая в окопной грязи,
молодой человек, защищающий чужую страну,
вестовой, зарывшийся в землю, все, что он
сделал, непостижимым образом отрицает
дары его юности, и армия гуннов
наступает на него со всех сторон.
Нельзя сказать, что отец был политическим младенцем — от
своего отца, моего деда Исаака, печатника, он узнал
о сладких ценностях гражданской религии —
социализма.
Он понимал, что немецкие солдаты, которые убьют его,
как только он зашевелится, гораздо ближе к нему
в том, что они приобретают и теряют, чем
к своим же генералам и правителям, которые
погнали их на войну.
Он понимал, что общество имеет
вертикальную, а не горизонтальную структуру и что
за какое-то историческое мгновение до того,
как разразилась война, не художники и интеллектуалы
в кафе Парижа, Вены и Берлина, писавшие
на полотняных салфетках
свои эстетские манифесты,
зажав дымящиеся «Голуаз» и «Нэйви Кат»
между указательными и большими пальцами, но люди,
работавшие на заводах и
вгрызавшиеся в глубины шахт
за жалкие гроши, и школьные учителя, продавцы
больших магазинов и кондукторы трамваев
предположили, что они не французы, не немцы и не итальянцы, но
представители всемирного рабочего класса, который
перепахал все границы и был
порабощен капитализмом и его
монархическими придатками, и что его
националистическая идеология есть
дерьмо чистой воды.
Увы, двадцать восьмого июля наступило отрезвление,
когда серб Принцип застрелил
Габсбургского эрцгерцога Франца Фердинанда,
но еще большей катастрофой стало то,
что австрийская социалистическая партия
послала своих членов записываться
в армию
наравне со всеми прочими.
Однако осмелюсь предположить, что думал
в тот момент мой отец: его мать,
его отец, его милая Рут, его сестра Софи,
его сестра Молли и
(ничто человеческое не было ему чуждо)
французская девушка в прибрежном городе Вильдье, которая
пришла к колодцу набрать воды на площади, где
как раз в это время
мой отец с товарищами
сидел под тентом Café Terrasse de la Gare, потягивая
белое вино и закусывая хлебом и сыром.
Но что ты в действительности думаешь,
когда думаешь о ком-то?
Ты не мыслишь при этом фотографическими
изображениями или мельканием отдельных кадров,
как утверждают кинематографисты
(что еще они могут сказать?).
Нет, ты видишь жест, который исчезает,
не успев возникнуть,
оставляя по себе ощущение
достоверности.
Если ты слышишь голос, то он собирательный, его
едва улавливаешь, и он
кажется отзвуком нрава.
Мысль о ком-то не вырастает в зрительный образ
и не обрамляется слышимым звуком,
присутствие человека в твоем сознании —
а может быть, даже и не в сознании —
в сонме соединенных чувств,
стройном порядке ощущений, которые
принадлежат тебе самому,
как беззвучная песня,
которую ты поешь сам себе,
или страстная молитва, которую
ты возносишь, не говоря ни слова,
воздавая хвалу невыразимой единичности и
неповторимости образа.
Мысли о матери Бен ощущал как непреодолимое обожание.
Его маленькая мама —
как он любил ее поддразнивания,
ее танцующую походку, когда
она возилась на кухне, ее способность смывать смехом все
мелкие прегрешения сына.
Его тихий папа, тонкий, прямой,
с копной красивых седых волос и широкими скулами,
напоминанием о сибирских степях, —
это было воплощение его, Бена,
интеллектуальной формы, предвосхищением, которое
он сам не воспринимал как предвосхищение, но которое
предлагало ему вопросы,
которые он был склонен задавать.
Милая его сердцу Рут была тем маяком, который
манил его к жизни, без нее
он испытывал мучительное одиночество.
Она воплощала для него красоту Америки.
Она стояла в его памяти как статуя Свободы,
твердая, верная, рожденная, как и он,
на Манхэттене, изваянная как обетование
нового мира, вытесняющее собой историческую катастрофу,
поразившую Европу, из которой с таким отчаянием
стремились выбраться его родители.
Теперь он сам находился в Европе, сидя на дне окопа и
стараясь вжаться в его стенку,
а гунны продвигались все ближе.
Этот момент должен был знаменовать
последний контакт нашей семьи
с европейской цивилизацией.
Авангард проскочил мимо, в глубину позиций союзников,
но теперь к окопам подошли вспомогательные части.
Они хлынули в окопы в поисках живых вражеских солдат,
которых можно было убить и поживиться
едой, ботинками и обмундированием.
Мой отец слышал, как они переговаривались
в соседнем ходе сообщения, и в последний момент
вспомнил старый как мир идиш, который