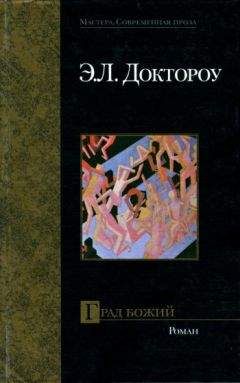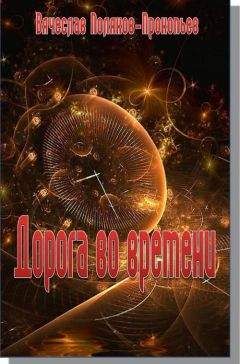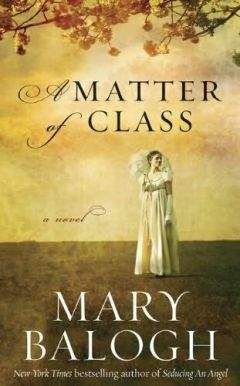во всей своей богатой уникальности.
Он играл в теннис в белых парусиновых брюках.
У меня есть фотография,
сделанная старой портативной «лейкой» того времени,
объектив которой,
похожий на мехи аккордеона,
выдвигался вперед по двум направляющим штырям.
Рука ловко согнута в локте,
тело устремлено вперед,
белая рубашка с длинными рукавами,
темные волосы, темные усы,
вся фигура у дальней стороны сетки,
кадр почти целиком заполнен полем корта,
общественного корта с покрытием из красной глины.
В углу снимка видна спина неизвестного анонимного соперника,
навечно застывшего в отчаянной погоне за мячом.
Дальний фон — многоквартирные дома Бронкса,
выкрашенные сепией
по моде 1925 года.
Моя мать тоже играла в теннис.
В тридцатые годы они вместе ходили на корты,
а я стоял за проволочной сеткой и канючил,
дожидаясь своей очереди.
Она похоронена рядом с ним на кладбище
Бет-Эль в Нью-Джерси.
Но, пережив отца на тридцать семь лет,
мать навеки запечатлелась в моей памяти.
Последний раз она встречала свой день рождения
в отделении интенсивной терапии, когда ее только что
отключили от аппарата искусственного дыхания.
Поздравляю тебя, мама, сказал я,
тебе сегодня стукнуло девяносто пять.
Она подняла бровь, открыла глаз
и едва заметно улыбнулась —
эта улыбка пыталась задержать уходящую жизнь;
девяносто четыре, поправила она меня.
Это был наш последний разговор.
Но и теперь, через несколько лет
после ее ухода из жизни,
я продолжаю ощущать ее смерть
как непривычную тишину, молчание,
молчание человека, который
всегда должен был что-то сказать по поводу нашего вкуса
и по поводу наших привычек
и при этом всегда утверждал, что говорит только тогда,
когда его об этом просят.
Она сумела овладеть только одним
достижением современной техники,
которую вообще-то недолюбливала и не понимала,
автоответчиком. «Позвони маме» — это все, что она
позволяла себе сказать машине, которая
моим голосом требовала сообщить
имя и номер звонившего.
Мой голос при этом не был похож
на голос живого человека —
это был ясный, четкий безликий голос
говорящей машины, для слуха машины и
предназначенный.
«Позвони маме» — вот что я услышал бы и сегодня,
установи мы телефон в ее могиле.
В 1917 году мой отец закончил прохождение
военно-морской подготовки,
получил звание сигнального офицера и вскоре после этого отбыл в расположение
экспедиционного корпуса в Европе.
Его не успели обмундировать в новую военную форму,
и он был как белая ворона среди ранцев
и обмоток других новобранцев.
Потом, совершенно непостижимым образом,
а может, это только кажется, что непостижимым,
ему изменили звание, причем сделано
это было не Аннаполисом[10],
а местным командованием.
Отца направили в окопы
служить военно-морским наблюдателем
по связи с флотом.
Все правильно, ведь связь и была
его специальностью, как она была специальностью
всех мужчин в нашем роду,
начиная с деда,
который прибыл в Америку в 1887 году и
стал печатником.
Конечно, отец понимал,
что световая сигнализация и сигнальные флажки
годятся только для флота,
но в окопах столь же бесполезными оказались
телефон и телеграф, на которых
держится связь в сухопутных войсках.
Ведь каждой атаке немцев предшествовала
артиллерийская подготовка,
сметавшая кабели и провода,
так старательно подведенные
к штабам батальонов,
и если для того, чтобы поднять в воздух
телеграфные линии, протянутые
вдоль шоссейных и железных дорог
к артиллерийским позициям и
в полевые госпитали, от полков
к штабам дивизий,
достаточно дернуть за оструганный,
пропитанный креозотом сосновый стержень,
и последует выстрел, и тысячефунтовый
снаряд тяжелой гаубицы,
как копье Ахилла,
врежется в провода и
полетит дальше, таща за собой,
словно хвост кометы,
раскаленные провода,
оставив любого генерала
в таком же неведении об обстановке,
как самого последнего пехотинца,
скрючившегося на дне
окопа в своей жалкой форме,
и только рев разрывов будет
непроницаемо закодированным войной
ответом на вопрос генерала
о том, что же происходит в действительности.
Мой наблюдательный отец сразу ухватил
эту особенность и со смехом
рассказывал мне,
что не надо быть Эйнштейном,
чтобы понять, что война —
это такое же врожденное свойство человеческого ума,
как твердость — свойство древесных клеток дуба.
Оправдав надежды своего морского командования,
он оделся в китель цвета хаки
и каску убитого лейтенанта, который
делил с ним блиндаж, и когда
в воздухе повисли свист и грохот,
а земля вздыбилась,
поднимаясь и оседая,
как волны самого тяжелого из морей,
он принял на себя командование уцелевшими
солдатами сигнальной роты;
они упрямо разматывали
свои гигантские деревянные катушки,
заменяя разорванные на куски провода новыми, или
запускали с поднятых рук почтовых голубей, которые
каким-то чудом возвращались обратно,
больше похожие на комья окровавленных перьев.
Отец создал в своей роте команды
посыльных по два человека,
в задачу которых входила доставка
разведывательных данных в штаб
и передача штабных приказов войскам.
Посыльные — единственное, что могло
действительно работать на войне, хотя сведения, которые
они доставляли, могли запаздывать на час и больше.
Американский генерал Першинг очень долго
сохранял свои армии свежими
под своим непосредственным командованием,
но в 1917 году дела у союзников
пошли из рук вон плохо,
а количество убитых в британской и французской армиях достигло
четырех миллионов человек,
большинство из которых
умерли послушными, молодыми, ошеломленными,
согласно своим чинам и званиям.
В это время части Второй американской армии,
в которой мой отец служил
военно-морским наблюдателем,
были переданы французскому командованию
на южном участке обширного театра военных действий,
протянувшегося полосой разрушений от бельгийского побережья Северного моря
до швейцарской границы у Бернвезена.
Я рисую в воображении
своего отца в состоянии войны,
в состоянии, в котором и французы, и немцы,
и американцы занимались только тем, что
испытывали на прочность здравый смысл
и все человеческие чувства.
Вспышки сигнальных ракет
осыпали ночное небо
светящимся горчичным порошком,
снаряды, издавая противное шипение,
вспыхивали, словно молнии,
вырывающиеся из земли,
а когда наступило солнечное утро,
окутанное едким белым туманом,
все поняли, что немецкая пехота
перешла наконец в решительное наступление.
За тучами взметенной пыли и песка
раздавались шаги.
И то были шаги Смерти,
шедшей к молодым солдатам в окопах.
Отец вдруг понял, что из всей
сигнальной роты, к которой он был прикреплен
наблюдателем и командиром которой он стал, подчинившись
воинскому пылу, в живых остался
он один.
Человек, находившийся рядом с ним,
воздел к небу руки и
упал на колени в последней молитве.
Все застигнутые наступлением на ничейной земле
бросились назад в окопы.
Сейчас я не могу утверждать этого
определенно, но в те годы, когда
я жил дома с родителями, а его старший сын
Рональд
был на войне,
отец часто водил нас на стадион.
Игроки метались по зеленому полю.
Мы сидели, греясь в лучах солнца,
я ел из пакета жареные орешки, а он
курил сигару.
Он молчал среди толпы, которая
неистовствовала на трибунах, и это
обращало на себя внимание.
Мне нравилась зеленая трава поля,
белая разметка и звуки ударов
по мячу, которые гулким эхом
разносились над стадионом еще долго после того, как
мяч уже был в воздухе.
Но отцу больше нравилась игра один на один, когда
более умелый
переигрывал противника, не важно какого.
Он любил нападающих, например Хирша из «Крейзи Легз»,
который своими финтами, увертками и обводами умел
поднимать с мест всех зрителей стадиона,