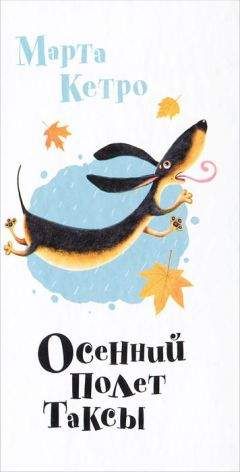Взмахиваю тетрадками и отвечаю взгляду тёти Ани:
— Я ещё не знаю, что они написали. А от меня бы зависело, и не трудился узнавать.
Тётя Аня заставила меня провести письменную работу: серединка на половинку опрос и эссе. Душа её не на месте, когда письменных работ нет слишком долго. Это омеляет источники власти. Тётя Аня держит в железной руке русских писателей и своих учеников, романы и диктанты, калечит насмешкой, убивает исправлениями, истязает трактовкой и дружеским советом. Оценивать написанное другими! У вас, Тургенев, всё опять психологические пейзажи? А вы, Шаховская, — с каких пор «корова» пишется через «а», к чему вообще тут коровы? Из бедного пишущего (роман, диктант) живого вынимают потроха и, вежливо потрогав их указкой, оглашают перечень. Ваши кишки? А что ваши кишки? Никто на ваши кишки не посягает. Можете забирать.
Ещё и поэтому я передумал становиться поэтом. (Поэтому, а не потому, что не хватило таланта.)
— Вам неинтересно, что думают девочки? — спрашивает томная, интересная блондинка, и в тоже блондинистом голоске я с удовлетворением узнаю интонации озабоченного ангела.
— А что они могут думать? Мне интересно, что Линч думает или Кроненберг. И то не всегда.
Отбрив цыпочку, я пристраиваюсь в равноудалённом кресле и с видом почётного страстотерпца сую нос в тетради, а общество лениво плюхается в тёплые воды культурного дискурса. Зу-зу-зу, зу — зу-зу… О книжечках пара слов. О фильмиках пара слов. О телевизионных впечатлениях три десятка восклицаний. «Бездарность», «Пошлость». «Незнание реалий». «Для отечественного сериала даже неплохо». Отдельная плотненькая стая фанатов «Доктора Хауса». (Не хочу сказать дурного слова и не могу отвязаться от подозрения, что практикующие врачи над этим фильмом ржут в голос.) Им жаль, что я обделён на этом пиршестве. Обо мне вновь пытаются позаботиться.
— А вы, Денис? Каков, по-вашему, идеальный роман или фильм?
— Комические диалоги, а в промежутках кого-нибудь убивают. Для вящей живости.
— Разве можно смеяться над убийствами?
— Я кинокритик, а не синефил. Мне всё можно.
— Вы всё время острите, — проницательно и опасливо замечает Елена Юрьевна.
— Да. Это особый шик умирающих.
Мымры и кретины шокированы. Тёткам интересно. Тётя Аня не реагирует, курит.
— А вы… умираете? — не выдерживает тётка попроще.
— Пока нет. Но приготовиться не помешает. И когда я наконец начну умирать, у меня будет выработан нужный навык. — Я смотрю на директора, который незаметно вошёл и стоит у дверей. — Потому что требовать от умирающего, чтобы тот в пожарном порядке учился острить, негуманно.
— А вы гуманист? — в упор спрашивает директор.
— Только по отношению к себе самому.
Он кивает и еле заметно улыбается. Лицо его непроницаемо, галстук строг и подтянут, руки безгранично спокойны. На среднем пальце массивно блестит обручальное кольцо. Жена директора, наверное, такая же, как и он: спокойно стареющая, мрачноватая, упакованная мадам. Тридцать лет назад вместе окончили школу и двинули по жизни бок о бок, как парочка псов на сворке (в хорошем смысле). С тех пор ничего не изменилось, только мсье стал чаще поглядывать на сторону.
— Константин Константинович! И вы всё шутите. А что вы скажете на Страшном суде?
Директор смотрит на цыпочку с раздумьем в очах и говорит так прохладно, что я начинаю внутренне хихикать:
— Что вы, Елена Юрьевна. Если Господь читает в душах, то говорить на Страшном суде никому не придётся. А если не читает, так это будет профанация, а не Страшный суд.
Тут я перевожу взгляд на тётю Аню и вижу, что тётя Аня не упустила ничего: ни натянутого холода интонаций, ни молниеносного исподтишка зырканья. Какое ей, спрашивается, дело? Что может быть законнее, когда директор гимназии крутит любовь с одной из училок? Конспираторы хреновы. Парочка так старательно и наивно держится подальше друг от друга, что обидеть их повернётся язык лишь у конченого завистника.
Я озираюсь: глубоководное, чёрт его побери, царство, которое само для себя имеет претензию казаться салоном; пухлые рыбы алчно разевают рты, а в их тёмном нутре ворочается не сознающая себя злоба. «Сожрать солнце!» — думали бы они, если бы умели думать и если бы знали о существовании солнца. Я здесь, конечно, не лучик света, но делаю всё, чтобы возбудить неприязнь. Зачем? Не знаю. Душа просит.
Общая беседа потолклась на месте и вернулась в область искусства. Заговорили, опять с сериалом в виде старта, о детективах.
— Детективы, — не утерпел я, — строятся на своего рода одержимости, стремлении выяснить правду. Которая мало кому нужна. Кого интересует это дурацкое «на самом деле»? Если уж быть одержимым, то другими вещами.
«И правильно», — говорит взгляд директора.
«Костенька!» — говорит взгляд Елены Юрьевны.
«Попалась», — говорил взгляд тёти Ани.
Я утыкаюсь в тетрадки, чтобы тоже чего не сказать глазами.
— Но ведь сюжет, интрига… — говорит тётка попроще.
Высовываюсь обратно из тетрадок.
— Не знаю. Меня всегда интересует вопрос, не кто убил, а кто будет следующим трупом.
— А как же детективы без убийств?
— Ну это вообще несерьёзно.
— А герой? — спрашивает цыпочка. — Сыщик, расследователь? Каким он должен быть?
— Ну, тут классика. Крутой, кругом виноватый, вечно бухой или на наркотиках. Да, и конечно, спит со всеми подряд: свидетельницами, потерпевшими и подозреваемыми.
— Любопытно, — говорит директор.
— Омерзительно, — говорит Елена Юрьевна.
«Омерзительно», — кивает тётя Аня.
Нити — какие нити, канаты, стальные тросы! — страшного напряжения протянуты от тёти Ани к директору и обратно. Даже между директором и цыпочкой нет такого потока флюидов. Иногда это насмешка, иногда — ненависть, но постоянно — глубокое, противоестественное понимание. Ужасное, недопустимое, о котором помыслить больно. Как между Сашей и её псом. Прости мне, Господь, но они разговаривают! (Саша и пёс, хочу я сказать.) И это выглядит вовсе не трогательно, о нет. Даже говорить не хочу, как это выглядит.
— Что омерзительного? — спрашиваю я с прохладцей у Елены Юрьевны. — Бухло, наркотики или секс?
— Их комбинация. Человек, который борется с преступностью, не должен быть таким же, как преступник.
— Но они и правда такие же.
— Не вы ли говорили, что правда никого не интересует?
Ах ты, сучка! Уличить меня придумала.
— Я соврал.
— Когда именно? — спрашивает директор. — Тогда или сейчас?
— Не скажу.
Этот ответ всех озадачил и, следовательно, удовлетворил. Пока они раскумекают, что их послали на трёхбуквенный, я успею слинять или, по крайней мере, собраться с силами.
— Получается, — говорит Елена Юрьевна, — что, наказывая, эти люди просто громоздят на совершённое преступление ещё одно, иногда даже худшее. И при этом чувствуют себя ближе к тем, кого преследуют, чем к тем, кого защищают.
— Конечно. И если они не могут поступать иначе, зачем им при этом стараться быть другими?
— Но они должны быть другими!
— О нет, это всего лишь лицемерие.
— В лицемерии столько хорошего, — замечает директор. — Только вследствие лицемерия же оно считается не добродетелью, а пороком.
— Это софистика, — замечает тётя Аня.
Мымры, тётки и кретины безмолвствуют, потому что на голубом глазу произнесённое слово «добродетель» лишает современного человека равновесия. Даже если он учитель и привык не моргая говорить «нравственность», «заповеди», «добрые примеры». Есть, видимо, такие слова, от которых в понимании современного человека и учителя веет то ли Законом Божьим, то ли сталинизмом. То есть они чуют, что добродетель сплошь и рядом безнравственна, и стараются обезопасить себя от жутких мыслей, изгоняя слова, которыми эти мысли мыслятся. Конечно, если хочешь жить. Приходится жить здравым смыслом за счёт воображения.
«Это софистика», — говорит взгляд тёти Ани.
«Конечно, — говорит взгляд директора. — Сразу видно, что у парня есть мозги».
«Спасибо», — должен, вероятно, изобразить мой взгляд. Я утыкаюсь в тетрадки.
И Гриега
«Пастораль, — говорит Киряга. — Вот как это называется».
Мы с Доктором Гэ. Переводим и всё никак не переведём дыхание. Нам уже всё равно, как. Это называется. После того. Как мерина вывели погулять. И он отказался идти обратно в свой сарай. И его пришлось заталкивать. Он был бы не против, чтобы мы внесли его на плечах. Конь Калигулы. Зараза.
— Гарик, не мечтай. Ну-ка вилы в зубы.
— Киряга! — говорю. Стараясь, чтобы убедительно. — Мы не можем.
— Можете, только ещё не знаете этого.
Бесполезно объяснять, как. Всё внутри дрожит.
Киряга знает сам, но. Считает, что дрожь достаточно объявить несуществующей, чтобы та куда-то делась. Как, не знаю, облачко. Живительный ветерок дунул, и тю-тю.