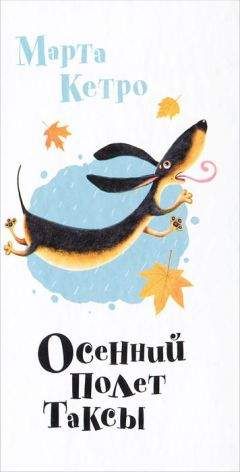— Дура ты, дура, — говорит голосу Принцесса. — Страсти вообще-то кипят, а не горят. Бурлят, в крайнем случае.
— Какая разница? — спрашивает Лёха.
— Между горением и кипением?
— Если я правильно понял, — говорит Алексей Степанович, — это метафора. И поскольку буквально страсти не могут ни того, ни другого, то какая разница, горят они или кипят в переносном смысле?
«Что тебе, пэтэушнику, известно о метафорах? — написано на лице у Принцессы. — Откуда ты слово-то такое знаешь?» Она говорит:
— Такие устойчивые метафоры не для того столетиями складывались, чтобы их первый встречный кретин коверкал. И если вековая поэтическая практика выработала рифмы любовь-кровь-вновь или розы-морозы, не обязательно поганить их своим остроумием. Не нравится любовь-кровь, рифмуй что-нибудь другое. А ещё лучше — переквалифицируйся.
— Откуда ты такая? — спрашивает драбадант с переднего сиденья.
Принцесса фыркает.
— Скажите, дружок, а вы горите желанием рассказать мне свою биографию? — Фыркает ещё сильнее. — Если я правильно понимаю смысл слова «гореть».
— Скажи, чего ждёшь, и я что-нибудь навру.
— Не сомневаюсь.
«Вот у некоторых сера в жопе горит, — думаю я. — А в руках всё — синим пламенем». Получаю подзатыльник.
— За что? — спрашивает Лёха.
— Он знает, за что. Видите, хвост поджал?
— Я бы тоже поджал хвост, если бы кто-нибудь размером со слона свесил мне плюху.
Я пристраиваю морду Принцессе на колено, а к Лёхе поворачиваю зад: дескать, сами разберёмся. Лёха одобрительно хлопает меня по ляжке. Но-но! Как сумел, так и присел.
В машинах, вообще говоря, не бывает уютно: воняет и укачивает. Или трясёт. (Но укачивает всё равно.) Здесь пахло самой машиной — металлом, кожей, сигарами и спиртным в потайных ящиках, Лёхой пахло, драбадантами. И ехали мы как по маслу.
Принцесса и Лёха на заднем сиденье смотрят в разные окошки. Я сижу между ними, как свадебный генерал, но свадьбой не пахнет. Налево принюхаюсь: такой хюбрис, что и без человечьих рученек, сам по себе, на стенку полезет. Направо принюхаюсь: такой хюбрис, что мозги вышибает. Ох, плохо дело. Одного-то хюбриса на целую античную трагедию хватает. А ну как их два?
Шизофреник
Уже говорил, что нужно как можно меньше смотреть по сторонам и как можно тщательнее смотреть — пусть это нелегко — под ноги. У этой благоразумной привычки (как и у всех благоразумных привычек, ведь благоразумие — это прежде всего умение игнорировать, а далеко не все вещи мира можно игнорировать вполне безопасно) есть один важный изъян: если опасность придёт, ради разнообразия, не из-под ног, а именно со стороны. И она пришла, ради разнообразия, и сильно, не шутя, толкнула меня в спину и бок. Я оказался в закутке за лестницей, перед дверью в подвал или иное хозяйственное помещение (не хватило всей жизни, чтобы выяснить, подвал это или не подвал, я боялся одной мысли о маленькой железной двери, выкрашенной в разные периоды красками разных цветов, преимущественно зелёной, даже когда входная дверь была нормально коричневой; а в те редкие дни, когда маленькая железная дверь оказывалась не на замке и, порою, приветливо распахнута, я летел мимо на крыльях ужаса, и выбивающиеся из-за двери клубы смрада хватали меня за пятки), да, простите, прямо перед ней оказался: согнувшись, отклячившись, со лбом, прижатым к чередующимся пятнам краски и ржавчины; эта дверь, как бы часто её ни красили, ржавела свирепо, мгновенно, непристойно, как где-нибудь в джунглях, в непредставимой жаре и влаге.
Сзади меня плотно держали за вывернутую руку и за волосы.
— Ну что? — спросил в ухо глухой голос. — Допрыгался?
— Допрыгался, — смиренно признал я.
— На кого работаешь?
Что я мог рассказать ему в ответ? Про пенсию по инвалидности? Про то, что кого-то настоящего, опасного, смелого перепутали с никчёмным уродом? Допустим. Но я должен был сказать это так, чтобы он мне поверил. И с дурацким смешочком, вполне, на мой взгляд, подтверждающим придурковатость говорящего — уж получше лежащей дома в шкафу справки, — я ответил:
— На Моссад.
Признаю, что пошутил глупо, но я всего лишь хотел защититься. Показать свою полную, безграничную непригодность к серьёзной речи, свой бездонный идиотизм. И, как выяснилось, защищаться такой шуткой было самой плохой идеей из всех, какие могли меня осенить. (Слово-то какое. Будто под сенью развесистых идей укрываешься от палящих лучей разума; и ведь эта сень действительно даёт, до определённого момента, защиту и прохладу.) Самой плохой идеей. В сущности, я бросился под то дерево, в которое предстояло попасть молнии. Потому что он не удивился.
— Теперь будешь работать на меня. Тихо! Не дёргаться!
Он отпустил мою руку, но не меня. В новой диспозиции в одно ухо мне упирался ствол оружия, в другое — успокоившийся, ей-богу, повеселевший голос. И я не мог решить, что опаснее.
— Сперва ты расскажешь, зачем за мной следишь.
«Я всего лишь хотел узнать, какого цвета у вас глаза». Такой ответ многих бы, наверное, устроил. В худшем случае меня бы приняли за гомосексуалиста и, наградив пинками, отпустили. Но человеку, который как должное принимает слово «Моссад», требуются другие ответы. Это знал он, а теперь знал и я тоже.
— Я не слежу.
— Неверный ответ.
«Я отвечу тем ответом, который вам понравится, только сперва скажите мне, что это», — вот что следовало бы сказать. Я ведь не понимал, чего он добивается. Я даже не понимал, настоящий у него пистолет или как.
— Я не виноват перед вами.
Он озадаченно фыркнул.
— Я и не говорю, что ты виноват.
Как-то сразу и само собой определилось, что он будет мне тыкать, а я не посмею ни возразить, ни перенять. Возможно, это нормальное поведение для того, у кого пистолет, а возможно, его организация в международной табели о рангах была выше Моссада. (О котором отныне мне предстоит думать словом «мой». Боже, хоть бы прочесть о них что-нибудь общедоступное.) Пока ещё я знал, что не работаю на Моссад. (Насколько человек может знать о себе такие вещи.) Неизвестно, что я буду думать после соответствующей обработки… в конце концов, мой двоюродный дед, которого чёрт догадал брататься с союзниками на Эльбе, оказался английским шпионом.
— Зачем я сдался Моссаду?
«Скорее всего, низачем». Такой ответ мне и самому уже представлялся неверным. Поистине, у Моссада могли быть самые разнообразные, сложно спутанные, досконально продуманные мотивации.
— Они осведомлены, — сказал я дипломатично. Вот так, осведомлены, мало ли о чём. Ему лучше знать.
— Ага. — Он расслабился, будто впрямь услышал дело, и я поспешил перевести разговор.
— А что будет со мною?
— Ничего, будешь получать дополнительные инструкции, всё как обычно.
— Но как я это объясню?
— Я же сказал, всё как обычно. Отпишешь своей конторе, что это ты меня перевербовал.
— А мы не запутаемся?
Он коротко засмеялся и надавил мне на затылок; мои волосы по-прежнему были зажаты в его кулаке.
— Не думаю.
— Я всё понял, — сказал я.
Вечером я позвонил Хераскову. Я бы умер, если бы не позвонил, да и, при сложившихся обстоятельствах, не такая это была страшная вещь. Впереди маячили вещи пострашнее.
— Помните, как мы познакомились? — неожиданно спросил он. — Я разговаривал с приятелем о Байроне. Так вот, его убили.
— Байрона? — ляпнул я с перепугу и оттого, что в голове всё звенело и дёргалось от недавней встречи.
— Виктора, — поправил Херасков мрачно. — Байрона, конечно, тоже, но это не новость.
Сегодня мне казалось вполне естественным, что людей — и наших приятелей, и английских поэтов, крупнейших представителей эпохи романтизма, — убивают. Ещё вчера я спросил бы «почему?» или «зачем?» (хотя, если подумать, спрашивать «зачем» имело смысл у убийцы). Сегодня я спросил: «Как?» По всей видимости, мне предстояло вплотную интересоваться подобными вещами. Что ещё требуется от перевербованных агентов Моссада?
— Зарезали в парадной. Витю! Такого, как Витя, просто взяли и зарезали! Кому это было нужно?
— Возможно, по ошибке?
— Это зачинают людей по ошибке. А убивают всегда с намерением.
— Может, он не был тем, за кого себя выдавал?
Не знаю, как это пришло мне в голову. Ежевечерне я делал упражнения по специальной методике, стремясь развить в себе и упрочить доверие к людям, я слушал радио и принимал — чего бы это ни стоило — на веру всё, что там говорили. Я принимал — как умел — на веру даже слова моего лечащего врача. Я хотел жить в мире, где цельный человек не распадается на десяток личин и не способен оказаться кем-то ещё.
— Он вообще никем не был, если уж начистоту. Вы считаете, с такими данными легко выдать себя за того, кого стоит убить?