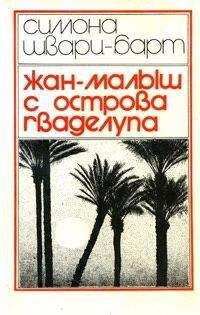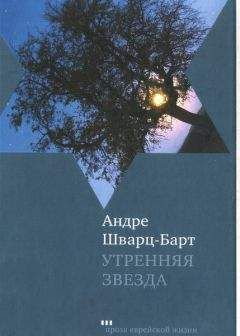Жизнь текла по-прежнему, старая жена оправилась от раны. И все вроде бы вошло в колею, устоялось, успокоилось, как вдруг что-то необъяснимо сжало горло Онжали. Потом у нее начало ломить в костях, а потом жечь каленым железом изнутри. И поднялся переполох — ведь все сразу поняли, что это за болезнь. Стоило какой-нибудь живой твари подать голос, как сразу же раздавались вопли женщин, которые криками отпугивали посланника тьмы, колдуна, исподволь изводившего душу Онжали. С факелами, вооруженные до зубов, как на сражение, выходили мужчины и рубили все, что скользит, ползет, летает в воздухе, вплоть до самых безобидных букашек. Но увы — то были ни в чем не повинные живые существа, божьи создания, такие же смертные, как и человек, и больная не поправлялась. И вот как-то вече ром, когда Жан-Малыш стоял под свисавшей с его хижины сухой осокой, он заметил над крышей жилища старшей жены медленно парящую сову и выстрелил. Сраженная наповал птица испустила надсадный вопль, который перешел в громкий жалобный стон, и у самой ограды усадьбы о землю грохнулось женское тело. То была отвергнутая им жена. Он сразу узнал ее, хотя лицо оборотня превратилось в человеческое лишь наполовину. Ее было повели к месту казни, но по дороге она испустила дух, и тогда, привязав к стволу дерева, ее пустили по течению Сеетане, чтобы пресные воды унесли нечистую в море, откуда уже никто не возвращается…
Онжали ненадолго ее пережила. Забыв обо всем на свете, исходя слезами, Жан-Малыш лежал возле умирающей, а вокруг его хижины стоял недобрый гул пересудов. И когда ему показалось, что жена уже покинула его, она на мгновение пришла в себя, чтобы подарить ему последнюю легкую, чуть кокетливую улыбку и тихо промолвить извиняющимся голосом, который, прежде чем сорваться с ее губ, казалось, пронесся над бездонными пучинами:
— Вот видишь, жизнь что сумасбродная женщина, а поскольку я для тебя не одна женщина, а целых полторы, то и сумасбродства во мне оказалось побольше; ну а ты — кем же ты был на самом деле, друг мой дорогой, мой бык в праздничной упряжи? Ну скажи, кем, а?..
Если не считать слез по покойной, гостя короля вроде не в чем было упрекнуть. Он никогда не сворачивал со стези доброты и сердечности, ко всем женам, которых ему приводила хозяйка очага, относился одинаково, ни одной из них не отдавая особого предпочтения, ни одну не выделяя. Но все же было в укладе его жизни нечто подозрительное, какое-то чудачество, граничащее с непристойностью, будто он переступил грань допустимого в отношениях между мужчиной и женщиной. Об этом начали поговаривать сами жены Жана-Малыша, потом молва обошла всю деревню. Ее умело раздули кумушки, растолкли ее в ступах вместе с просом; вылетела она мухой — возвратилась слоном; сестрички Онжали перепугались и вернулись в родную деревню, захватив с собой коров, глиняную посуду и детей, которых рождали на свет от семени гостя короля и клали в пустую колыбель хозяйки очага…
И тут Жан-Малыш понял, что остался с пустыми руками, что никогда они не были так безнадежно пусты с самого дня его появления в деревне Низких Сонанке. Конечно, он пользовался расположением короля, подарившего ему радость семейного очага, больше того, он был другом его доброго, верного сына Майяри, но ни одна пядь земли, ни одна соломинка и сухая травинка с крыши хижины, ни одна капелька крови, что текла в жилах его сыновей, не была собственностью чужестранца, которым он так и остался. Одно только и принадлежало ему в этом призрачном, быть может, несуществующем мире — сердце Онжали…
Каждый год, как только созревало просо, Низкие Сонанке несли кушанья из нового зерна в дар умершим, в черную пещеру, ту, о которой говорил сын короля на песчаном островке — Лодке богов, на следующий день после того, как Жан-Малыш упал с неба в Африку. Через саванну текли ручейки людей, они сливались вблизи пещеры, и три ночи подряд живые пели и плясали с мертвыми, угощали их своей снедью в освященных глиняных чашках.
На всех выходивших из пещеры Тенях была одинаковая синяя, сливавшаяся с ночью одежда: они и правда казались ожившими сгустками мутной ночи. Жан-Малыш знал, что ни одна Тень не может его узнать, потому что помнили они только свою кровную родню, членов своего семейства. Но он не пропускал ни одного года, с нетерпением ждал появления Онжали, любил смотреть, как величаво выходит она в своем сумрачном саване, как расспрашивает близких о новостях, а потом, усевшись напротив, беседует с каким-нибудь родственником из деревни Гиппопотамов, изящно подхватывая кусочки еды из лежащего между ними блюда. Глаза ее были подобны двум серебряным полумесяцам, отражавшимся в зеркале спящего озера, и, когда она выходила из грота, они, весело, по-детски ярко блестя, перебегали от одного человека к другому, но никогда не задерживались на чертах Ифу’Умвами…
Прошло время, и наш герой устал от этого беглого, не узнающего его взгляда, и он забыл дорогу к пещере мертвых; теперь он жил один, на самом краю деревни, в хижине на сваях, которую соорудил из жердей и побелил известью, как когда-то делали в Лог-Зомби…
Ему уже исполнилось пятьдесят лет, но тело его было крепким и блестящим, как только что отлитая из бронзы колонна. Лишь там, у пещеры, от безнадежного ожидания того, что Онжали его узнает, у него появились первые серебряные пряди; жизнь казалась дуновением ветра, ноги словно скользили по этой призрачной земле. Из оцепенения его вырвала война. Началась она со слуха, с некоего слепого пророчества, которое обещало Пожирателям еще тысячу лет господства. Несколько воинов-одиночек, «людей из чащи», перешли реку, идя напролом, уничтожая на пути все живое, пока сами не наткнулись на копья. И тогда король Эманьема приказал отнести себя к Сеетане, и обратился он к тем, что собрались на другом берегу, с такими словами:
— Добрые соседи, благородные воины, послушайте глас седин моих…
Но через реку донеслись насмешки:
— Эй ты, старая баба, ты сперва напяль на себя юбку, вот тогда мы тебя послушаем…
— Добрые соседи! — воскликнул надломленным голосом король. — Поверьте мне, лучше толочь просо, чем точить мечи; война — это торжество смерти, это источник тысяч несчастий, и если то белое облако, что прилетает с побережья…
Стрела прервала короля на полуслове, и его отнесли в тень дерева. Пока с обоих берегов неслись проклятия, он шепнул что-то на ухо Майяри, и его не стало — с величайшим спокойствием ушел он из жизни. А сказал он вот что: помни, сын мой, местью мира не улучшишь. Но слова эти подхватил и унес бешеный, всепожирающий вихрь такой жестокости, какую Жан-Малыш и представить себе не мог, хотя о многом был наслышан. Кровавое безумие и ему помутило разум, и вскоре имя его стало легендарным, а в одной из сложенных о нем песен говорилось:
Стремителен как волк и столь же лют
Врага любого он настигнет
И повергнет вмиг…
Не однажды его мушкет, заряженный железной кар течью, наводил ужас на врагов, наседавших на нового короля, нежного и верного его друга Майяри. Но Пожиратели одолевали своей военной выучкой, а их утонченная жестокость заставила бывших рабов дрогнуть, отойти к долине реки Нигер. Как-то ночью Жану-Малышу приснилось, что он рвет врага клювом и когтями. Открыв глаза, он обнаружил, что превратился в ворона, распростершего могучие крылья над молодым королем, который спал подле него в их общей палатке. Усилием воли он переместился в человеческое тело, потом опять обернулся вороном, и так четыре или пять раз, пока не убедился, что полностью овладел превращением из человека в ворона и из ворона в человека. И вот, объятый гневом, с яростно взъерошенными перьями, он тенью скользнул из палатки короля и полетел к лагерю неприятеля, где устроил кровавый пир — до утра рвал врагов клювом и когтями. Когда он вернулся к палатке и обратился в человека, то увидел, что покрыт кровавыми пятнами, будто мясник. Он сбегал к ручью, потом тихо, чтобы не разбудить друга, лег спать; то же самое проделал он и на следующую ночь, потом на третью и во все последующие ночи, пока над лагерем бывших хозяев не повеял ветер безумия…
И тогда над небом Пожирателей пронесся другой слух, по которому выходило, что пророчество было пустым тщеславием. И когда этот второй слух заглушил первый, когда последний неприятель возвратился на свой берег Сеетане и скрылся за зеленой стеной в том самом месте, откуда некогда вышли первые боевые отряды Пожирателей, Низкие Сонанке отыскали останки короля Эманьемы и захоронили их рядом с могилой льва, ибо лев был покровителем его рода. Потом устроили поминки по тем, кто пал на поле брани, а деревенский певец призвал погибших как можно быстрее вернуться на землю, возродиться из женского чрева, чтобы опять наслаждаться солнцем. Потом он долго славил подвиги Ифу’Умвами, оправдавшего свое имя, а новый король послал к нему молодых красавиц, таких же юных обольстительниц, каких некогда приводила к нему Онжали; но наш герой с улыбкой отказался и ушел в свою хижину на сваях, чтобы жить в одиночестве, по велению своего сердца…