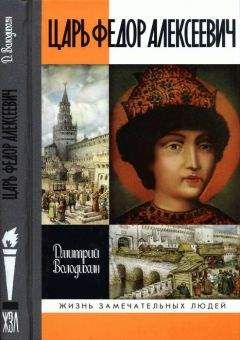«В Сибири я смотрел на небо иначе: иногда с праздным интересом, чаще — угадывал погоду на завтра, — подумал Дроздов. — А теперь нашел Кассиопею и неизвестно для чего вспоминаю чьи-то слова: взирай на этот свадебный венец долго, чтобы впитывать энергию и быть везучим и счастливым. Везучим и счастливым. Значит, есть страх перед чем-то? Мне стало тяжко нести крест, который лег на меня в последние годы? И больной Митя — тоже крест? И многое из того, что происходит, — тоже? Так о каком везении речь? Душевное равновесие, гармония — вот прекрасное и надежное убежище. Где же оно, равновесие и свобода навсегда? Все зависит от нас самих? И все хорошо, все хорошо, свободен, освобожден навечно?..»
Он посмотрел вниз, на меркло желтеющий под фонарем в пропасти улицы асфальт, почувствовал сладко-тягучий холодок в животе, как бывало и в детстве, когда смотрел с высоты, мгновенно замерз на сыром воздухе и, закутываясь в халат, в эту минуту услышал за спиной телефонный звонок.
«Нет, значит, не случайно!» Он быстро вошел в комнату, быстро снял телефонную трубку, но сказал сверх меры спокойно: «Да», — и тотчас где-то в чужой квартире или автоматной будке спешно повесили трубку, лишь коснулось слуха и оборвалось свистящее дыхание. «В этом нечто намеренное. Нет, здесь не ошибка связи…» И Дроздов, докуривая сигарету, сел в кресло, теперь не сомневаясь, что два звонка не могут быть ошибочны, случайны (первый — воздействующий, второй — подтверждающий первый), что в этой нелепой ночной угрозе действие и злоба каких-то неизвестных недругов, мстящих за что-то, в ненависти объявивших ему тайную войну с угрожающим предупреждением. «Гнусавый голос подростка — декорация… — продолжал думать Дроздов, припоминая интонацию голоса в трубке. — «Мразь! Отступи!» Но кто купил этот голос? Кто он? Что ж, каждый ненавистник — потенциальный наемник. Немыслимо и печально. Кто же из моих коллег может так ненавидеть меня? И за что? И сколько их, недругов? Глупость и безумие!..»
Это было первое, пришедшее в голову, но любое предположение не имело никаких внушительных опор, и Дроздову вдруг стало невыносимо тошно. Это была не боязнь, не опасение, а злое брезгливое чувство, раз пережитое им в молодые годы, когда после окончания института он неопытным, поэтому чересчур строгим инженером сталкивался на стройках в Сибири с работягами разными, и «за непослушание паханам» был даже проигран бывшими уголовниками в карты, однако, по стечению обстоятельств, проигравший «московского инженера» сам был избит до полусмерти своими дружками за воровство в бараке и из больницы на стройку не вернулся.
«Кто-то угрожает мне с упредительным расчетом, но — кто он за измененным телефонным голосом? — соображал Дроздов, сидя в холодноватом сумраке комнаты, по-прежнему не зажигая света. — В респектабельном институте кто-то хочет «проиграть меня в карты». Все в этом мире повторяется. Фарс. На Енисее мне угрожали почти теми же словами — только на клочке бумаги. Так что же это? Какая цель? В чем? В ком? С кем это связано? И почему именно сегодня ночью звонок?..»
Стояло звонкое сентябрьское утро. В продутой ветрами голубизне таял над городом бледным перышком ослабший месяц.
Эта солнечная, ясная звонкость в воздухе властвовала и во всей Москве — на ее улицах, на перекрестках, на пустынном бульваре, против которого он вылез из такси, не доезжая до Старой площади. Оставалось в запасе пятнадцать минут, и он пошел по непрерывно шелестящей аллее, по бегущей навстречу коричневой поземке к переходу на другую сторону, к блещущим стеклами подъездам ЦК. Северный ветер с шумом гнул полунагие липы, сорванные листья вздымались над бульваром, летели, заслоняя оловянное солнце, в сторону Политехнического музея, густо усыпали сухие тротуары.
В просторном вестибюле, тихом и светлом, а потом в беззвучно скользящем вверх лифте Дроздов еще чувствовал на лице удары ветра, металлический запах листьев, лицо в тепле немного горело, и тревожное ощущение не исчезало.
Битвин бодро вышел из-за стола своего большого кабинета, энергичный, бритоголовый, его белое волевое лицо широко улыбалось, он долго тряс руку Дроздова очень сильной в пожатии рукой, говоря свежим голосом:
— Чрезвычайно рад вашему приходу, Игорь Мстиславович. Я отниму у вас некоторое время. Чаю? Кофе? Я убежден, вы пьете чай. Верно ведь? Искра Борисовна, будьте добры, чаю! — попросил он, приоткрыв дверь в приемную, и под локоть проводил Дроздова к длинному столу, предназначенному для совещаний, сел напротив, пододвинул пепельницу. — Я не курю, но мне не мешает. Наоборот. Да, интересно, Игорь Мстиславович! Весьма любопытно! — продолжал он, вспоминающе откидывая голову, и громко захохотал. — Конечно, Тарутин у вас большой оригинал и, я бы сказал, якобинец и жирондист своего рода! Ему не хватает гильотины. Экстремист, но неглуп, неглуп!.. Хотя, как говорят, увлекается зеленым змием. Это так? А добрейший наш Чернышов был в полуобморочном состоянии. Бедняга! Жестокие меморандумы его просто убивали наповал! Какое у вас впечатление от вчерашнего скандальчика? Нелепо и скорбно! Верно ведь? А?
Сюда, в кабинет Битвина, весь озаренный сентябрьским солнцем, отраженным в стеклах шкафов, за которыми разноцветно теплились корешки книг, не доходило ни звука с московских улиц, мягкими волнами подымался от конвекторов нагретый воздух, а за окнами выделялось в выветренном небе толпообразное скопление кремлевских глав, недалекий купол Ивана Великого горел с одного бока нежарким огнем — все было надежным, прочным вместе с сочным смехом Битвина: «Верно ведь? А?» В то же время ощущалось что-то нетвердое в нелетнем, уже косом освещении кабинета, что-то нащупывающее в этом веселом добродушии вопроса о вчерашнем «скандальчике» у Чернышова.
— Это должно было произойти. Рано или поздно, — сказал Дроздов, разминая сигарету над пепельницей. — И не потому, что Тарутин экстремист, жирондист и якобинец. Гильотина — не его оружие. Относительно змия — тоже сильное преувеличение.
— Возможно, возможно.
— Не знаю, многие ли из нас могут плыть сейчас против потока хаоса в экологии. Большинство плывет по течению. Тарутин прав. Наше варварство не принесет земле благоденствие. Катастрофа наступит.
— М-да-а, — протянул Битвин и махнул ладонью по зеркально полированному столу, точно пылинки стирал. — Ваша истина, Игорь Мстиславович, слишком печальна.
Без стука открылась дверь, неслышно вплыла в кабинет полная женщина в опрятной белой наколке, неслышно поздоровалась одними губами, неслышно расставила на чистейших салфетках стаканы с чаем, сушки, вазочку с кубиками сахара и так же бесшумно вышла, сопровождаемая кивком Битвина.
— Печальная истина, горькая истина, — продолжал Битвин, ловко захватывая щипчиками кубик сахара и с дружеской бесцеремонностью опуская его в стакан Дроздова. — Вам один? Два? Слишком прискорбная, слишком, — повторил он, положив сахар в свой стакан, и со звоном закрутил ложечкой. — Не правда ли, слишком, Игорь Мстиславович?
Он громко отхлебнул, скосил на Дроздова густые брови лешего, своей лохматостью, разительной чернотой словно бы не соответствующие его крепкой гладкой голове.
— Не находите в этом сверхмаксимализма? А то мы все мастаки перехватывать.
— Нет, не нахожу. В экологии почти все невесело.
— Разумеется, так, — озадаченно крякнул Битвин. — Но печальные истины тревожат. И знать их не всегда хотят.
— Кто не хочет, Сергей Сергеевич?
— А вот это уже вопрос за гранью! — Битвин опять захохотал, смягчая уход от ответа, затем взял из вазы сушку, с удовольствием разгрыз ее сильными зубами, с таким же удовольствием запил ее чаем, придерживая в стакане ложку между указательным и средним пальцами. — Ах, Игорь Мстиславович, — заговорил он расположенным к обоюдной доверительности голосом. — Ведь мы с вами о многом одинаково думаем и, надо полагать, понимаем друг друга. Если в наше время что-то категорически не разрешено, то еще не значит, что оно категорически запрещено. И в этом нет прибежища для ума и добродетели. Наша с вами жизнь — это борьба с неотвратимостью.
— Борьба с неотвратимостью? Какой?
— С неотвратимостью смерти. И моей, и вашей. И всего народа нашего. И всего рода человеческого. Аксиома. Мы живем накануне мировых катаклизмов… Как говорится, перед Судным днем. Перед последним…
— Если я правильно понял… — проговорил Дроздов, улавливая по тону Битвина, что он в доверительной откровенности перешел или хотел перейти запретную в его положении черту, быть может, рискованную. — Значит, Сергей Сергеевич, — договорил он, решаясь на ответную откровенность, — значит, официальная правда и официальная ложь — синонимы? Значит, они стоят друг друга?
Битвин сцепил на столе руки, втиснул короткие пальцы меж пальцев, в упор глядя из-под лохматых бровей на Дроздова мудрым взором прошедшего через все хитроумные изыски человека.