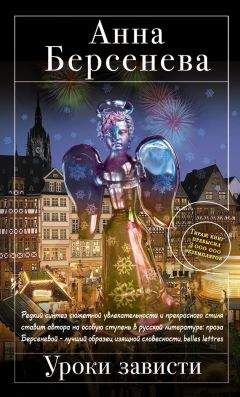— Ну, и куда ты нас поселишь? — спросила Люба, когда Митрич втащился с треногой в прихожую.
— Сию минуту Зарину вызову, она и определит. Парами-то все разместитесь по спальному этажу. Адвокат только, Лазарь этот, наверх не пошёл, в гостиной, внизу остался… Решим и с ним. — Он позвонил по телефону, велел быстро придти «на место работы». Там, видно, выдвинули какие-то резоны, чтобы он сам занялся гостями, но Митрич повысил голос: — Я за тебя постели заправлять буду? — И повесил трубку.
— Митрич, миленький, вот Серафима Петровна спрашивает: делают ли ещё у вас «нарошки»? И знаешь ли ты историю села?
— Бабка одна есть, ляпает от неча делать. А про село, как не знать? Я же учителем-то историю как раз и вёл. Краеведением, естественно, занимался.
— Вот и ладненько! Тогда мы Зарину вашу подождём и с ней договоримся. А вы приготовьтесь преподать нам урок краеведения. Ну, там… побрейтесь. Рубашку свежую… И сюда! — сказала Серафима.
— И вот ещё что, любезный, — выглянул из гостиной адвокат. — Прротоколы прравления за прредыдущий год не посчитайте за трруд показать…
— Сюда доставить?
— Сюда, сюда, будьте добрры.
Зариной оказалась не молодая девица, как можно было предположить по модному имени, а невысокая, плотная женщина, в которой Люба узнала жену Митрича. «Аскольд и Зарина… Чудные имена для программы, — подумала она. — Снимать только трудно будет вместе… Фактура разная».
— Вас как разобрать-то? Парами? Или однех туда, другех — сюда? — спросила Зарина с понимающей улыбкой.
— Одних, одних. Мы с — Серафимой, парни — тоже вдвоём, — ответила Люба. — Не узнала меня, Зарина, предлагаешь-то?
— Как не узнать? Узнала! Да ведь, кто вас знает, нонешних? Да и время уж прошло. Ну, хорошо. В бывшую вашу спальню пойдёте? Только постели-то там теперь другие, отдельные, не ваша кровать…
— Ну, и хорошо. Спасибо.
— А баней кто у вас заведует? — спросила Серафима.
— Да кто закажет, тот и заведует. Вам истопить, что ли?
— Хорошо бы. Как ты, Люба? С приездом, а?
— Только без «другех»! — уточнила Люба.
— Как скажете… Только уж к вечеру будет готова.
Зарина отдала Любе и Виктору ключи от спален, спросила, надо ли заправлять постели или сами, мол, управитесь и, потолкавшись ещё немного возле гостей, ушла по другим делам.
Люба поднялась в свою спальню. У дверей осмотрелась. И эта комната стала другой. Вроде, просторнее и беднее, что ли, потому что нет в простенке между окон их большой и такой уютной кровати, где никогда не было тесно и не оставалось лишнего места. Куда её девали? Распилили на две вот этих, что жмутся к стенам? Нет комода с зеркальным трельяжем и пуфом… У кроватей — тумбочки из другого гарнитура. Но кресла и столик — те же… и шкаф…
Люба пропустила Серафиму в комнату, спросила:
— Ты которую кровать займёшь?
— Ты свою занимай, а я потом.
— Моей тут нет… Вот здесь она была, — показала в простенок.
— А ничего ты тут жила, подруга! — огляделась Серафима и присела на ближнюю к двери кровать.
— Очень даже ничего!.. Но когда всё это было?…
— Времена, голуба, меняются. Были мы замужем, теперь — холостые. Блюли себя, теперь — гульнуть не грех!
— Без меня, ладно?
— Чего это без тебя-то? — Серафима упала на кровать, задрала вверх тощие ноги, поболтала ими, как ножницами. — Монастырь что ли по нам плачет? Я бы после баньки оторвалась. Ох, любила я после баньки! А ты когда?
— А я любила, когда любила. Кого тут любить-то? Геннадия с Виктором? Или Митрича?
— Да! Не люби брата и сотрудника аппарата… А пасынок твой на что?
— Ну, и возьми его с собой в баню! — начала сердиться Люба.
— Если пойдёт…
— Спроси!
— А ты?
— Я лучше с Митричем поболтаю, если придет. — Люба достала из шкафа постельное бельё, положила его на подушку и, бросив Серафиме её комплект, спустилась вниз. Хотела выйти на крыльцо, но в приоткытую дверь гостиной её увидел адвокат, позвал:
— Можно вас на минутку? Не скажете, не было рразговора с мужем, когда он был прредседателем, о его затррратах на соорружение этого комплекса?
— Не помню такого разговора. А что вас интересует? — спросила Люба.
— Я имею ввиду его личные трраты на стрройительство, — уточнил адвокат.
— Ну, не помнит человек, чего пристал? — вступился за Любу Игорь.
— Уважаемый доверритель! Я знаю, зачем докучаю баррышне! — вскипел Лазарь. — Мне пока не хватает документов, и я интерресуюсь! Имею прраво.
— Пока я тебе доверяю, — уточнил Игорь и перевёл разговор: — Там тётка баню вам пошла топить. А после баньки кино не посмотрим? Я тут привёз кой-чего…
— Любовь Андрревна, Игоррь Анатольевич хочет показать вам сплошной рразвррат!
— Лазарь! Ты заткнёшься? Или сегодня же вылетишь, — гаркнул Игорь на поднявшегося из кресла адвоката.
— Соверршенный развррат, запррещённый советским законом к показу и лицезррению! — выкрикнул Лазарь и снова упал в кресло, уронив за него телогрейку.
— Люб, он перегрелся вчера в бане. Нормальное кино! Всё по жизни!.. Просто молодость берёт своё. Старперов типа Лазаря это бесит. У них всё в прошлом. Но у нас-то всё впереди, а Люб? Лазаря уже автобус ждёт. А мы после баньки… А?
— А тебя он не ждёт? — спросила Люба.
— Кто?
— Автобус. Позвать Стёпу Дурандина, чтобы проводил? Помнишь такого? Зимой тебя домой отвозил…
— Да ладно! Стёпу… Где он, кстати? Спросить кой-чего… Как батя с тобой жил? Хай лайф обламываешь всю дорогу…
Митрич пришёл чистенький, свежий, в новом костюме и рубашке апаш с отложным воротом. Рубашка, видать, едва ли не послевоенных времён, но хорошо подкрахмалена, чуть поблескивала от солнца и делала мужичка прямо пионером, только что откусившим совсем зелёное ещё яблоко. Серафима позвала Геннадия посоветоваться, где снимать беседу. Не в спальне же, а гостиная занята. Геннадий сразу предложил крыльцо: и фон прекрасный, и солнце уже подсвечивает не ярко. Посадили Митрича на одну лавку, Любу — на другую, чтобы не смотрелись они рядом. За Митричем виден был хороший задний план часть дымящей бани и угол рубленого сарая, за которым темнела роща, подчёркивая не утраченную ещё свежесть построек.
— Красивое у вас село, Аскольд Дмитриевич! — начала разговор Люба. — Кто-то очень умело его начинал. А давно ли это было? Сколько селу лет? — И ласково улыбнулась, чтобы подбодрить сжавшегося всем нутром Митрича.
— Оно, считайте, ровесником Ленинграда будет. Значит уж далеко за двести лет ему. А первой усадьба строилась. И тоже каменная была. Не устояла, правда, в разные годы. Пожар случался в восемнадцатом году, да разбирали потом по кирпичику на всякие нужды. А красивая была усадьба! Я её на одной картине видел в музее. Сказка! По этой картине и строили новую. Кирпича нам, конечно, не отрядили столько. Уж на что Сокольников Анатолий Сафроныч ходовой мужчина был, это который… Ну, муж ваш, Любовь Андреевна… Это он вздумал обратно отстроить усадьбу… Так и пришлось рубить из дерева — его у нас вон сколько за рекой. Картину нам сюда, конечно, не выдали, а размеры снять архитектору для чертежа разрешили. Вот и получилось. Не всё, правда. Пруд ещё был большой. С островом любви, как у Нарышкиных. А наш-то Нарошкиным звался. Но тоже большой человек был. Последний-то Нарошкин с князем Феликсом Юсуповым водился. В Питере жил. Говорили даже, что причастен был к смерти Распутина Григория, но достоверных данных на этот счёт у меня нет. Но похоже, дружили они крепко, и по пращурам ихним их так и звали — Юшка и Нарошка. Из татар они были все, что Юсуповы, что Нарышкины, что наш — Нарошкин. Ну, и военные, конечно, потомственные. Лейб-гвардейцы.
— А кроме усадьбы, что ещё сохранялось в Нарошкине? — спросила Люба.
— И в Нарошкине, и об Нарошкиных сохранялась память о школе, которую они держали для крестьянских детей. Ну, и храм, конечно, на том конце села высился. «Покрова Божьей Матери» звался. Но к самому селу не примыкал, поэтому село и не зовется Покровским. Разобрали тоже в тридцатые годы. Одно кладбище осталось… Вот тоже интересное дело. Земли у нас сплошь подзол, а кладбище, как нарошно, одна глина, причём, мокрая. Пласт её прямо к реке выходит. Раньше её там много брали для гудков, которые тут делали и возили на ярмарки. Почему их «нарошками» звали, общего мнения нет. Одни говорят, что по селу так звались гудки, другие по месту глины, дескать, как нарошно не песок, а глина под кладбищем, а некоторые и по назначению: это мол, не чистый голос селезня у гудка, а нарошный такой… И потом ещё эту глину мочить не надо. Помнёшь, и она даже капельки сама даёт. Целый промысел был на «нарошках». Потом всё погасло. Мол, хлеб надо выращивать, а не гудки ляпать. Так, бабки некоторые остались и теперь ляпают, только уж не гудки, а свистули разные.