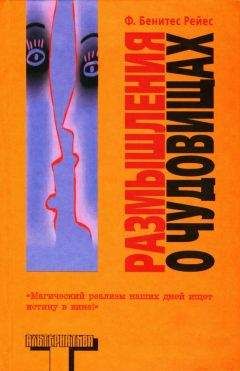Я шел за ними какое-то время, все более и более удивляясь этой семейной картине, покуда не повернулся и не отправился своей дорогой, перебирая в голове многочисленные гипотезы касательно увиденного. (Наиболее разумной, хотя и не очень разумной, мне показалась версия об одной из этих увядших девушек, которых Бласко искал в музыкальных гетто для разведенных людей.)
Однажды, когда мы вместе бродили по барам, наказывая свою тоску и печень, я сказал об этом Бласко. Он внезапно задумался с той подавленностью, какая свойственна обманщику, с которого сорвали маску, желающего одновременно продолжать свой обман и не надевать больше маску:
— Это моя жена и мой сын. Ребенку шесть лет.
Я не ожидал этого и не мог предугадать, а Бласко вдруг начал рассказывать мне подробности: она работала уборщицей в кинотеатре, а еще убирала в двух домах и одном банке, и ночью ухаживала за парализованной соседкой, такова была ее жизнь: убирать чужой мусор и препираться с умирающей. Из этой тревожной суеты происходили единственные деньги, поднимавшиеся на башню из слоновой кости поэта, в то время как «Легкий и нефритовый» вращался, словно испорченный шар в ненадежной лотерее литературных премий, хотя она верила в талант своего сатанинского и богемного барда, дружившего с пирушками и с апокалипсисом, по крайней мере он уверял меня в этом: она была уверена в том, что в один прекрасный день Бласко всплывет в газетах как торжествующий поэт, проклятый, но торжествующий, после долгих унижений продажными конкурсами.
— Она верит в меня.
Не знаю, под действием какой пружины, но из меня вдруг выскочил наружу моралист:
— А откуда брать деньги на алкоголь, трипи и шлюх? Ведь пить можно дешевую отраву, трипи и всем остальным можем угостить тебя мы, друзья, но вот шлюхи обходятся несколько дороже, этим никто не угостит.
Бласко улыбнулся:
— Шлюхи? Я за всю жизнь ни одного дуро не потратил на шлюх, Йереми.
Само собой, я возразил ему, что мы много раз вместе ходили в «Гарден», что именно он частенько подначивал нас сходить туда, что я видел, как он исчезает в сумрачном коридоре, ведущем в кельи с плотскими диорамами, с пурпурными огнями, в окружении толпы потрясающих девиц.
— Да, но, доходя до двери, я говорю девушке, что плохо себя чувствую, а потом прячусь в уборной, в то время как вы запираетесь с вашими шлюхами, и жду, пока вы не выйдете, а уж потом принимаюсь болтать с вами о том, какими фантастическими были в эту ночь наши шлюхи.
Я замолчал, потому что не мог вообразить себе более странной ситуации: не лечь в постель со шлюхой, если пошел именно к шлюхам.
— Знаешь, что я скажу тебе, Йереми? Я пью на деньги Соко. Я пью на них литрами. Я транжирю их на трипи. Но я не мог бы потратить их на шлюх. И не думай, что мне не нравятся шлюхи, потому что они нравятся мне больше, чем сама жизнь. Но я знаю, что шлюхи почувствуют запах щелока, потому что деньги Соко пахнут щелоком, и потом, и мочой больной, понимаешь?
(Конечно, понимаю: совесть как открытая рана.)
— Соко плохо говорит, плохо одевается, плохо готовит, заниматься с ней сексом больно и неутешительно, но я не могу оставить ее, Йереми. Она умрет, как умирает птица, родившаяся в клетке, когда ее выпускаешь. И выход может быть только один: пусть она умрет, но не по моей вине. Ей выпала на долю плохая судьба, а мне выпало на долю быть рядом с ней. Я подарил свое сердце печальному чудовищу.
Ну, откровения такого рода обычно заставляют нас замолчать, так что я замолчал.
— Ты сейчас, вероятно, думаешь: «Да, то, что рассказал мне мой друг Бласко, — это потрясающе, необыкновенно, трогательная мелодрама». Правда, ты так думаешь, Йереми? Но ты также думаешь о том, что время от времени я хожу налево, заглядываю на дискотеки для былых красоток, чтобы попытаться подцепить разведенных, не так ли? Хорошо, но знаешь, что я тебе скажу? Я спал с очень немногими. Я обычно разговариваю с ними, целую их, немного трогаю их за грудь, и на этом все кончается. Мне это нужно. Это моя любимая фикция. И ты подумаешь: «Этот Бласко — психопат». Но я — явление совершенно противоположное, Йереми: кого вдохновит спать с узлом нервов, покрытым косметикой, возможно, даже со вставной челюстью? Когда тебе дает по мозгам, тебе нравится трогать женщин, ты это знаешь, и тебе почти все равно, то, что ты трогаешь, — оно первого сорта или дрянь, — но надо быть очень больным на голову, чтобы возбудиться от зрелища такого рода. Потому что нужно соблюдать контроль качества, иначе ты преждевременно превратишься в старика, понимаешь?
В общем, Бласко целую ночь путался в мелодраматических доводах, и его истории становились все более нелогичными, более ужасными и одновременно более чистыми, по мере того как он напивался, потому что алкоголь, кажется, добавлял в его рассказ эхо настойчивой и смутной жалобы, мелодию заикающегося, пастообразного стихотворения, с ритмом, отмерянным метрономом трепещущего, вскрытого сердца. (Сам Платон в своих «Законах» отмечает воспитательную ценность, вытекающую из разговоров пьяниц.) (И Шопенгауэр, со своей стороны, полагает, что людям надлежит обращаться друг к другу не «господин» и «сударь», а «товарищ по страданию».)
Бласко устроил мне веселую ночку, но я благодарен ему за приглашение войти в личный ад его ужаса. Из просто друзей, делящих между собой зыбкое пространство ночных химер, мы стали сообщниками по несчастью, а любое сообщничество — это хорошо. (Даже то, что основано на несчастье.)
Придя домой, я задал себе инфрафилософский вопрос:
— Что мы знаем о людях?
Вопрос, который внезапно делает нас еще более одинокими, более боязливыми и который попутно, словно серебряный мост, приводит нас к другому вопросу:
— Что мы можем знать о человеке даже в случае, если знаем о нем много, да и какой смысл обладать этим остаточным знанием, дополнительным, бесполезно компенсаторным?
Мы, люди, думаем в нечеткой форме слов и образов, некоторые из нас также имеют в своем распоряжении запасной ресурс — ясновидение, но боюсь, мы можем представить себе чужой ад только приблизительно: точный и верный образ своего ада каждый ревниво хранит в черном ящике, регистрирующем катастрофы бродячих самолетов сознания, и этот ящик не разрушается даже тогда, когда наступает момент нашего разрушения, и мы забираем его с собой на тот мир, и превращаемся в призраков, слоняющихся там и сям с черным ящиком под мышкой.
(Боюсь, с тайной совестью не может справиться даже смерть, она не испаряется.) (Она не испаряется.)
* * *
Есть такой афоризм: «Реальность не обращается хорошо даже с реалистами». Я говорю это потому, что в эту трудную эпоху жизни столкнулся на улице со своей излюбленной легендой — с Анной Фрай.
— Я занимаюсь медитацией. Рисую эскизы украшений и медитирую, — сообщила мне она в баре, куда мы зашли выпить кофе и отравить друг друга мыслями вслух, как в старые времена.
— Я никогда не была влюблена в тебя, Йереми, но ты был влюблен в меня, как безумный. Слишком влюблен. Это была бы редкая случайность, если б два человека могли влюбиться друг в друга с одной и той же степенью безумия, понимаешь? Такого почти никогда не происходит. Любовь — как весы, Йереми, и на этих весах две чаши, да, но на одной чаше всегда больше груза, чем на другой. Вес на них плохо распределен. Всегда.
(По ней издали было заметно ее новое занятие — медитировать. Медитировать с очень нахмуренным лбом, почти профессионально.) (И тогда мне пришли на память несколько фраз, которые она любила повторять, когда мы жили вместе: «У тебя ужасные носки», «Ты делаешь мне больно», «Сегодня ночью ты храпел», «Какой свинарник».)
Я уже девять лет не видел Анну Фрай. А девять лет — это много для чего угодно, но особенно для лица, а на лице Анны Фрай была записана эмоциональная летопись всего этого времени, мелким-мелким почерком, — в каждом ее выражении, в каждой ее морщинке, в каждом оттенке ее взгляда, пренебрежительного и высокомерного: а) ее непростые отношения со всякого рода абстрактным мышлением; б) ее несвязные кошмары, эти прожорливые фантазии, потому что в ней не была развита способность отличать свои сновидческие страдания от реальности, так что она вменяла мне в вину то, что я делал в ее снах: спал с другими женщинами, оставлял ее посреди леса, полного волков; в) ее неспособность жить одной и неспособность жить с кем-то: она была королевой линейного лабиринта своего сознания, с минотаврами в состоянии постоянной эрекции, и д) ее коллекция домашних страхов, параноидальных предчувствий: она была убеждена, что смерть одержима тем, что ежедневно расставляет ей ловушки: случайные пожары, утечки газа, наводнения, грабежи, провалы породы… Все это, и еще другое, было написано на ее лице, быть может, невидимыми чернилами, но только не для меня, мгновенного дешифратора этих иероглифов.