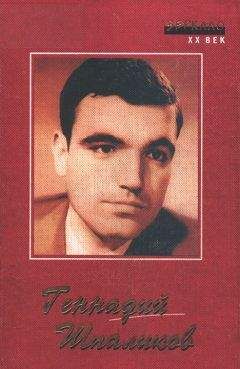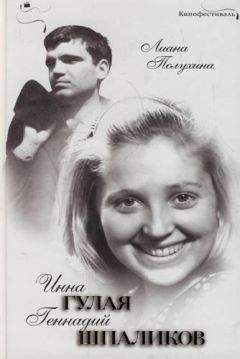— …Надежда, я вернусь тогда, — говорила Надя, а не пела, приближаясь к земле, — когда трубач отбой сыграет, когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет…
Это еще не падение — полет, когда тебя вращает, если захочешь, а не захочешь — ты свободно лежишь на плотной подушке воздуха, плоско лежишь, как на воде, и через воздух, как через воду, видишь, как внизу, в прозрачной глубине, проступают предметы, знакомые тебе, но пока что они так удалены, и приближение их едва заметно…
— …Надежда, я останусь — цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги, и добрый мир твоих забот…
Полет пока что игра с пространством захватывает, пока земля не напомнит о себе, надвинувшись резко.
— …Но если целый век пройдет, и ты надеяться устанешь, Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла, ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла.
Лицо Нади скрыто за широкими очками. На голове — белый шлем. Полет ее направлен.
Вокруг нее разбросаны в небе такие же фигурки парашютисток, летящих к земле.
Плавные, еле заметные движения рук — и Надя уже скользит вправо, приближаясь к одной из парашютисток, тоже в белом шлеме, в ярко-синем комбинезоне, в тяжелых ботинках, так свободно и странно провисших в пустоте.
Маневр Нади понят и принят — и вот уже они летят рядом, вытянув руки, пальцами касаясь друг друга, сближаются шлемами, расходятся, продолжая полет, и соединяются снова, как бы приглашая всех остальных, летящих вблизи и в отдалении, собраться вместе.
…Но если вдруг,
Когда-нибудь,
Мне уберечься не удастся,
Какое б новое сраженье
Ни покачнуло шар земной,
Я все равно паду на той,
На той далекой, на гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.
Это Надя договорила, приближаясь к земле.
Вскоре, образуя вытянутыми руками круг из белых, синих, оранжевых комбинезонов, они цветком зависают над землей, неясно проступающей сквозь редкие облака, еще далекой.
ВСЕ НАШИ ДНИ РОЖДЕНИЯ[22]
— Там, за рекою,
Там за голубою… —
просыпаясь, Митя вздрогнул, ясно услышав эти слова. Будто бы ему кто спел их — голосом высоким, чистым и знакомым. Каким-то давним будто бы голосом, но чьим, Митя вспомнить никак не мог.
Митя хотел было снова заснуть — рассвет здесь, внутри старой сумеречной их московской квартиры, едва ощутим был только, — но это ему не удалось, то ли голос его не оставлял, то ли — чей он — опять силился вспомнить, но сон ушел окончательно.
Блуждая, прошел по комнате, вышел на кухню — за окном, посередине московского дворика росло дерево, большое старое дерево, и оттого, что его тоже тронул рассвет, оно казалось сейчас сизым. Это отметил про себя Митя, стоя посередине кухни в пижаме и шлепанцах на босу ногу, — и песенка в голосе вертелась, иногда мелодией только, но вдруг опять обрывки слов выплывали, — и этот голос — он его узнавал:
Там, за рекою,
Может, за Окою —
Дерево рябое…
Дерево отражаюсь в его окне. Сквозь зыбкое движение листвы само лицо виднелось неясно. И казалось не только лицом даже, но частью — этого дерева, листвы, ствола, стекла, — всего частью.
Потом голос затих и исчез совсем. Больше не возвращался. И даже мелодия улетучилась. Тогда он почувствовал, что замерз. Но назад, в теплую постель, все-таки не вернулся. Блуждая, прошел по прихожей, свернул на кухню.
Там тоже был полумрак. Он стоял посередине кухни, опять не слишком понимая, зачем пришел. Мелодия покинула его, и шелест дерева не достигал, но бессонное волнение не исчезло. «Это, наверное, я просто есть хочу», — подумал он, подошел к плите и наугад поднял какую-то крышку. Вилкой подцепил макаронину. Дальше он и сам не сообразил, как все это произошло. Крышка вдруг скользнула между пальцами и со страшным грохотом упала на кафельный пол. Он испугался резкого звука и вздрогнул. Тогда и кастрюля свалилась. Тут же что-то стеклянное разлетелось с жутким звоном. Собака залаяла — рядом совсем — обалдело и громко.
«Ах, какой компот!» — почему-то подумал он, и в прихожей щелкнули выключателем, и там зажегся яркий свет. Он вышел.
— Это что? — спросили.
«У нее довольно приятное сопрано…» — подумал он, но вслух ничего не-сказал. На пороге спальни стояла его жена Светлана — в длинной кружевной рубашке до пят. «Это невероятно, но она смахивает на Джульетту…» — опять подумал он про себя и опять смолчал.
— Это ты? — спросила Света, от света щурясь.
— Это я, — сказал Митя.
Страшно залаяла собака, будто след взяла.
— Что случилось?
— Ничего. Я кушал.
— Что ты кушал? — удивилась Светлана.
— Макароны…
— Матильда! — вскричала вдруг Светлана страшным голосом. — Если ты не замолчишь, я скончаюсь!
Лай смолк, а Мите показалось, что Светлана сейчас рухнет в обморок.
— О боже! — сказали тут явственно и в то же время будто из преисподней.
В свет выкатилось кресло на колесиках. В кресле сидела опрятная старушка в белом одеянии, в буклях и чепце. Все переменилось. Сцена стала походить на бессмертную «Пиковую даму».
— Боже! — продолжила старушка. — Это я скончаюсь!..
— Сейчас же перестань волноваться, мама! — сказала Светлана жарко, с участием и поцеловала старушку в чепец. — Ничего страшного. Митя кушал.
— Что Митя кушал? — спросила старушка строго, с недоверием, не слишком соображая спросонья, что происходит.
— Макароны, — опять сказал Митя.
— Почему макароны? — строга спросила старушка. — Почему ты опять не кушал хек?
Ответить Мите не удалось. Матильда загавкала с новой силой.
— Матильда, смолкни! — крикнула Светлана в пространство, и лай прекратился.
— Я думала — мне все снится. — Все повернули головы. Новое лицо явилось. В дверях другой комнаты заспанно щурилась на них девочка лет пятнадцати. Его дочь, Митина, — Катя, — не его одного, разумеется, — общая их дочь — со Светланой.
— Тебе все спится, — мрачно подтвердила мать.
— А что произошло?
— Ровно ничего, — ответила Светлана просто. — Папа кушал.
— Он почему-то кушал макароны, — пояснила старушка, — хотя мог кушать хек.
При слове «хек» Матильда снова обезумела.
— Я задушу тебя! — крикнула Светлана, и тишина воцарилась.
— Ох! — выдохнула девочка в тишине и прошлепала босыми ногами по прихожей к отцу. — Ох! — сказала она еще раз и чмокнула Митю в щеку.
— Не понимаю, — сказала старушка.
— Чего? — спросила Катя. — Чего вы всегда не понимаете? Ему сейчас, может, сорок пять стукнуло.
— Кого стукнуло? — опять не поняла старушка.
— Мамочки! — сказала Светлана, к старушке не обращаясь. — Прости.
И тоже поцеловала Митю в щеку. В другую.
— Браво! — сказала старушка.
— Мите, мама, сорок пять сегодня исполнилось, — объяснила Светлана. — Поздравь его.
— Да, — горько сказала старушка. — Это склероз. Поди сюда, Дмитрий!
И Митя подошел. Старушка торжественно приложилась к его лбу.
«Ничего, — подумал Митя про себя, согнувшись. — Все-таки она довольно славная старушка. Ничего-ничего… Все пока идет ничего».
Когда же это было? — так давно, что и было ли вообще? — он не верил, конечно, что было, но вот, пожалуйста, — фотокарточка, — документ, можно сказать, — правда, желтая уже совсем, без угла, — и он на ней, жухлый, голый, ползет куда-то, — куда, господи? — его за лодыжку чья-то рука держит, когда-то мать говорила, что это бабка, но никакой бабки он и вовсе не помнил, а оттого и к фотокарточке относился совсем сторонне — никогда она его не задевала, и никогда он не мог соединить себя, каким себя знал, представлял, с этим пухленьким нечто, ползущим в никуда куда-то, да ему и неприятно было это ангельское дитя, — и потом, — дальше — вот под фикусом в кадке с матерью и отцом, боевым военкомом, он в матроске был, — ее, матроску, он слабо припоминал и теперь, — а вот и школа, — первый класс, и дальше — ворошиловские стрелки, — в ряд, со значками на цепочках, — и он в том ряду, — шея то-о-ненькая, — тоже стрелок, — это уже ближе, — тоже далеко, но все-таки ближе, — это он уже припоминать начал, — а вот их выпуск школьный, — они у забора почему-то все стоят, — у длинного серого забора, — что за забор-то? — плац это, — вспомнил, — плац, — водоподготовка, и они, — это сорок третий, — все восемнадцать ребят, весь выпуск их у забора этого, — а в живых осталось трое из восемнадцати, — потому что дальше киша была, — война, — это он помнил, конечно, — если вспоминать начинал, то вспоминал редко, — что-то мешало ему вспоминать про это часто, а помнить всегда и совсем невозможно было, — что-то в воспоминаниях этих его тяготило, — и не страх один только, — вовсе нет, — хотя и страх этот он помнил, конечно, — но не в нем была суть, — другое, — что-то хорошее, страшно сказать, в тех годах его смущало, но что именно, — так припомнить он и не мог, а, честно говоря, — и не хотел, — вот послевоенный он уже, — такой до смешного мирный вузовский выпуск, — большинство в шляпах, — но и здесь толком вспомнить ничего он не мог, — да и мудрено было вспомнить, — их там на этом картонном листке человек сто, может, — и все в кружочках, — а большинство в шляпах, — он и сам-то себя всегда подолгу отыскать не мог, — хотя каждый раз и силился запомнить то место, где его кружочек; а вот, пожалуйста, полюбуйтесь, — у орла, распростершего крылья, — и надпись художественным росчерком: «Ессентуки» — он, Светлана, Катя двухгодовалая, — это уже близко, тут он уже ориентировался, в общем-то, довольно складно.