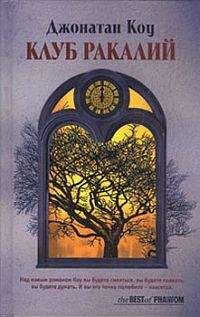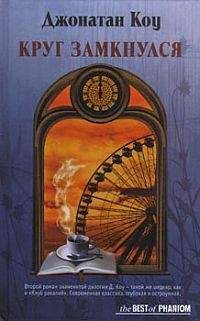5
— Ну что — готова, пойдем?
— Я собираюсь оставить тебе одну запись, на время. Хотел обсудить ее с тобой, но это мы еще успеем.
— По-моему, тебе понадобится плащ. В последние дни стоит настоящий холод.
— Все в порядке? Ты лучше иди первой. Я в этом доме каждый раз путаться начинаю. Столько коридоров.
— Постой, постой, куда ты так разбежалась? У нас еще полдня впереди.
— Вот так лучше.
— Ты, наверное, ждешь не дождешься, когда тебя отсюда отпустят.
— Ну видишь, я же говорил — подморозило. Погоди, давай я тебе шарф заправлю. Горло надо беречь. Вот так. Плащ-то твой долгожителем оказался, верно? Помню, ты его еще в пятом классе носила. А у меня новый. Мама в прошлом месяце купила. Сказала, что ей надоело видеть меня в старом пальто дяди Лена. Пальто в итоге попало на распродажу.
— Думаю, мы с тобой снова отправимся на Бикен. Ты как? Или, может, к пруду с утками?
— Ладно, тогда на Бикен.
— Мне просто казалось, что тебе могло и прискучить таскаться каждую неделю в одно и то же место.
— А знаешь, выглядишь ты лучше. Намного лучше. Мама, когда вернулась от тебя в среду, так и сказала, и точно. Лицо округлилось. Наверное, есть больше стала.
— Хотя кормят вас тут, скорее всего, паршиво, правда?
— Так, теперь поосторожней с машинами. Они по этой дороге носятся милях на пятидесяти, ну, некоторые из них. А полиции, когда она нужна, не доищешься. Ну вот, здесь можно перейти.
— Занятно, в среду мы как раз в этом лесу и были. Я, Гардинг, еще кое-кто. Не помню, говорил я тебе? Мистер Тиллотсон уломал директора ввести в расписание новый предмет, из тех, что можно выбирать по своему усмотрению. Называется «Урок-прогулка»… В общем, прогулка и есть, а означает она, что ученики вроде нас, те, от которых на регбийном поле обычно и мокрого места не остается, да и в забегах они безнадежны и в прочем тоже, ну вот, больше им настоящим спортом заниматься не приходится, они могут просто переодеться в нормальную одежду, залезть в микроавтобус, доехать до какого-нибудь места наподобие этого и пробродить по нему пару часов. Так мы можем подышать свежим воздухом, немного размяться и развить наши умы, ведя утонченные разговоры, — что-то в этом роде.
— Беда только в том, что мне теперь Гардингу и сказать-то вроде бы особенно нечего. Не знаю, почему так. Он, вероятно, считает меня занудой, а я… Странный он какой-то. И никуда от этого не денешься. Становится странным. Так что мы толком и не знаем, о чем нам говорить. Те пьески, которые мы вместе писали… В общем, ничего из этого не получилось.
— Господи, Лоис, да ты вся дрожишь. Мерзнешь в последние дни по-настоящему, верно? Я думаю, это оттого, что ты все время сидишь, а топят у вас слишком сильно. Я понимаю, тепло лучше холода, но получается, что когда выходишь в такой вот день — сильнее чувствуешь холод, так? Слушай, у меня в кармане та жуткая шерстяная шапочка. Бабушка связала, приходится таскать с собой, а ну как спросит, что я с ней сделал. Вот она, надень. И уши прикрой. Совсем они у тебя покраснели. А щеки, ты только потрогай! Вот так-то лучше.
— Да, так насчет регби — как правило, меня эта тема не занимает, уж ты мне поверь, — если хочешь знать мое мнение, все это их регби сводится к подавленной гомосексуальности, да не к такой уж и подавленной, видела бы ты, что после некоторых матчей творится в душевых, — ну ладно, прости, я какую-то чушь несу, не обращай внимания, это от нервов, но только я иногда даже не знаю, слышишь ли ты меня, хотя, конечно, слышишь, так они мне и сказали, поэтому я просто должен продолжать, так они говорят, продолжать, как будто у нас с тобой обычный разговор, правда, в большинстве обычных разговоров другой собеседник время от времени что-нибудь да говорит, ну да ладно, это неважно… О чем я рассказывал? Ах да, регби, насчет регби, ну вот, у нас на этой неделе разразился небольшой скандал — Астелл-Хауз играл против Рэнсом-Хауза, и Ричардс был полузащитником в «Астелл», и Калпеппер выступал за «Рэнсом», правым полусредним или каким-то там правым центровым, не знаю, как эти дурацкие позиции называются, — в общем, что там стряслось, никто порядком не знает, однако началась схватка, и вдруг, смотрим, Калпеппер катается по земле и визжит, от боли — буквально визжит — оказалось, что у него сломана рука. Ну, Ричардс очень сокрушался, страшно расстроился из-за этого, правда, он же человек мягкий, никому вреда причинять не хочет, да только Калпеппер теперь расхаживает по школе и уверяет всех, будто Ричарде сделал это нарочно. Чушь, конечно, это тебе всякий скажет. Дело в том, что он просто ненавидит Ричардса и готов на все, лишь бы ему нагадить. Ненавидит с тех пор, как тот поступил в школу, кое-кто говорит, это оттого, что он черный, но я думаю, причина в другом, думаю, он ненавидит Ричардса просто потому, что тот — лучший атлет, чем он, лучший спортсмен, да, по правде, и во всем его лучше. Однако положение становится все хуже и хуже. Похоже, Калпеппер с каждым днем ненавидит его все пуще, и к чему это может привести, никому не известно.
— Как бы там ни было, Ричардс намеревается добавить вскоре еще одну стрелу в свой колчан. Мы только вчера об этом узнали. Он вступил в театральное общество. Вернее, не то чтобы вступил, но…
— Прости, по-моему, нам лучше свернуть сюда. Там мамина знакомая, миссис Оукшот из Женского института, и нам совершенно ни к чему, чтобы она полчаса донимала нас разговорами. Да так, скорее всего, будет и быстрее, если подумать. Мы уже почти на вершине.
— Так вот, Ричардс и театральное общество. Дело в том, что на сцене он никогда не играл, а тут вдруг взял да и получил главную роль в рождественской постановке. Естественно, в «Отелло». Ну, особого выбора черных актеров у них нет, правда, в нашей-то школе? Гардинг вызвался изобразить Лоуренса Оливье, поработать еще разок с черной ваксой, однако на этот раз его предложение по определенным причинам благосклонного приема не получило. Что касается Дездемоны… вряд ли я должен говорить тебе, кто будет играть эту роль. Сисили, конечно. Теперь им осталось только завербовать Калпеппера в Яго, и мы получим тот еще спектакль.
— Да, верно, я так и схожу по ней с ума. Я знаю, знаю, все продолжается уже несколько лет, а я до сих пор не сказал ей ни слова. Это становится смешным. Я написал четыре симфонии и дюжину стихотворных циклов, все посвящены ей, а она, если встретит меня на улице, так и не узнает. Но… В школе, похоже, не происходит ничего, что позволило бы нашим путям пересечься. Как будто боги против меня сговорились, именно в этом случае. Вот смотри, я и в журнале-то начал сотрудничать, надеясь, что Сисили станет одним из редакторов. А она на первое же заседание попросту не явилась. Потом в школе решили, что уроки английской литературы будут у нас общими с женской школой, — и мы с ней попали в разные классы. На сцене играть я не умею, значит, познакомиться с ней таким способом мне не удастся, оратор из меня тоже никудышный, так что и вступить в дискуссионное общество не могу… не знаю, что мне делать. Единственная возможность познакомиться с Сисили — прибегнуть к помощи Клэр, которая встречается с ней постоянно, но Клэр… ну, в общем, она последняя, кого я мог бы попросить сделать что-нибудь в этом роде. Последний человек на земле. По очевидным причинам.
— Знаешь, на днях Филип рассказал мне о Клэр одну странную вещь. Он в последнее время видит ее довольно часто, из-за журнала, да они и живут всего в паре улиц друг от друга. Так вот, по-видимому, — не знаю, известно тебе об этом, возможно, известно, хотя… нет, скорее всего нет, все произошло сразу после… Ну ладно, по-видимому, сестра Клэр — я ее, кстати, встретил однажды, случайно, в кафе на автобусной станции, вместе с Полом, который был с ней, помнится, особенно груб — с сестрой Клэр, — Мириам, так ее звали, — она… Ну, в общем, она исчезла. Пропала, совершенно. Всех подробностей я не знаю — если честно, я никаких не знаю, — но там что-то связанное с любовником, с каким-то ее романом, и она оставила Клэр записку — или родителям — и уехала к этому мужчине куда-то на север, и все. Больше никто о ней не слышал. Ни единого слова.
— Я думаю, Клэр ужасно из-за этого переживает. Собственно, уверен в этом. Да и кто бы не переживал, правда?
— Кстати, о летних снимках из Дании все еще ничего не слышно. Папа так ругает себя за то, что отправил их почтой, хотя мог отдать в лабораторию, через улицу от нас, там бы все сделали. Два месяца уж прошло, как он их послал, но, похоже, фабрика фотообработки так до сих пор и бастует. Он только что на стену не лезет — каждый раз, как при нем упоминают о снимках. Говорит, что забастовки разрушают нашу страну, как рак разрушает тело. Я-то уверен, через неделю-другую снимки придут. Надеюсь, они получились хорошими. Там поразительные места, Лоис. Как жаль, что тебя не было с нами.