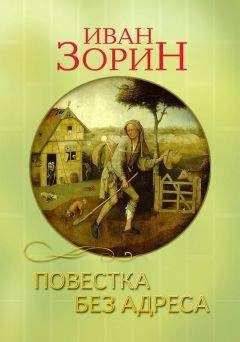— А почему должно быть по-другому? — улыбается он, поправляя пиджак. — Чтобы стать человеком, надо увидеть сердцевину жизни… — Он вздохнул. — А как тогда жить? Вот и рожают детей, учат их тому, во что сами давно не верят…
— А счастье?
Он пожал плечами:
— Его, как и смерти, нет.
Я беру его за пуговицу:
— Не уходи, мне грустно.
— Нет, сынок, родители тянут за собой, а куда?
Глухо ударили часы. Я снова проснулся Иваном Злобиным в старой квартире, из которой никуда не уходил.
Был час, когда забегаловки пустеют, а слышимость в них становится, как на реке. Пока я составлял с подноса, они сели за соседние столики: слева от меня двое тех, что постарше, справа — двое помоложе. Наши столики составили треугольник, в котором соседи играли роль гипотенузы.
— А вы не находите, что нынешние книги — это возвращение к пиктограмме? — долетело слева.
— В каком смысле?
— Была такая «Библия в картинках» для неграмотной паствы. Исчезла к пятнадцатому веку…
— Всё шутите. А мне не до смеха, меня другое беспокоит. Как нас после смерти судить будут? Неужели, наравне с каким-нибудь гунном? Опять же, возраст. В детстве и грехи детские, а сейчас — другое дело. Как же нас сравнивать? — Молчание. — А представьте, если и мерка там своя, о которой и не догадываемся? К примеру, нечётное число раз моргнул, отправят в рай, а чётное — в ад…
— Да ну вас, математиков, и за гробом всё считаете! Довольно, что в университете мы вас, раскрыв рот, слушали. А помните, как вы нас со Вселенной морочили — целую философию развели…
— Какую?
— Ну как же? Пришли на гуманитарный факультет и начали с умным видом: «С рождением для человека возникают время и пространство, которые постигаются его сознанием, а со смертью они исчезают, правильно?» Мы киваем. «Современная же наука, вслед за Блаженным Августином, утверждает, что при Большом взрыве появились время и пространство, которые исчезнут с гибелью Вселенной. Значит Вселенная в целом, как и человек, наделена разумом, иначе кому предназначено время?» Целый силлогизм построили, пантеизм в духе Спинозы.
— Мальчишки были…
— Ты после заскочи с товаром на склад — бухгалтер оприходует, — доносилось справа. — И не забудь счёт-фактуру…
— Ладно, не вопрос. Только в этот раз — лучше наличными.
— А чего так?
— Да Витёк требует. У него свои заморочки.
— Базара нет…
Звяканье ложек о зубы.
— А Витёк хорошо поднялся.
— Ну.
— Тебе, небось, добавил?
— Витька не знаешь — догонит и ещё добавит!
Я распрямился.
— А помните, как мы с лекций на Феллини сбегали?
— Мне больше Бергман нравился.
— Да, Бергман… Боже, как давно это было! Нет, я думаю, в нас все возраста живут, никуда не исчезая. Вынут из нас память на Страшном суде и прокрутят, как фильм — вот, любуйтесь, какое кино наснимали! Думаю, почище Бергмана будет…
— А правда, что Витька налоговая парит? Говорят, еле отмазался.
— Туфта, он же под ментами ходит.
— Да? Ну, давай, за нас…
Справа крякнули.
— А с Витьком за бутылкой перетирать доводилось?
— Ты чё, он же на понтах.
— Я думал, по старой дружбе.
— Скажешь тоже, кто — я, и кто — он… Повторим?
Я ковырял рыбу.
— А ведь вы стихи писали.
— Вирши, в юности все бумагу марают.
— Ну, не скромничайте, мне ваши строки часто на ум приходят. Про историю… — Слева возвысили голос. — «Сердце бьющееся будит на скрижалях мёртвы звуки, наша радость, горе, муки промелькнут и вмиг растают, ведь о тех, кто жил когда-то Бог один лишь правду знает». Хорошо, правда?
— Так себе… Всю жизнь историей занимаюсь. И знаете, к какому выводу пришёл? История — это холмы и низины, мимо которых вьются наши дороги. А чему учит? Ничему! Интереснее совершить свои ошибки, чем повторить чужие…
— Тачку новую взял, видел?
— За сколько?
— Да, чешуя — упускать себе дороже.
Запиликал «мобильный».
— Да? У меня переговоры. Ну, я же сказал: потом — домой, сто пудов.
Он отключился.
— Достала «тётка»?
— Ну. Надоело одной в телик пялиться.
— Давай, за твоё здоровье…
Я отложил вилку.
— А за Натальей как ухаживали! Весной подснежники дарили, стихи… До сих пор не прощу, что она за «Профессора» вышла. Помните, Сашку-очкарика? Ну, того, что у доски по три часа, как канарейка, прыгал, пока весь мел не изведёт?
— Как же, ещё удивлялись, как он троих детей сделал. А он отмахивался: «Кажется, и не я был…»
— Он самый! Когда институт прикрыли, мы с ним в сторожа подались. Ему детей кормить, да и мне жить надо.
— Надо ли?
— Да бросьте вы, жизнь — кривая, петляет, петляет, глядишь, ещё выведет…
Справа зашептали.
— Между нами, я тут одну фирму зацепил — хорошие бабки можно наварить.
— Витька, значит, по боку?
— Ну. Скоро дело закрутится. Пойдёшь ко мне?
Стукнулись рюмки.
— А можешь и сам вложиться. Процент с прибыли, как себе — гарантирую…
Я отвернулся.
— Вам сказки про волшебную палочку нравились?
— Вы это к чему?
— Они всех детей завораживают: прикоснулся и — бац! — превратилась бумага в доброго коня или гору леденцов. А недавно я вдруг понял — это про деньги! То же колдовство, магия…
— Да ну вас…
— Нет-нет, посудите сами, первобытный человек прежде чем рыбу съесть, ловил её, разводил огонь, жарил… А тут — бумажку вынул — и рыба на столе! Для нашего подсознания это не перестаёт быть чудом, ведь оно мильон лет назад сложилось. Оттого все на деньгах и помешаны…
— Но мы же не дикари и не дети.
— Да кто вам сказал?
Я уткнулся в тарелку.
Зазвонил телефон.
— Что ещё? Ладно, куплю. С грибами? А может, с колбасой? Хорошо, тебе — с джемом…
Он отключился.
— Блин, всё неймётся! Диплом хотела — купил, думал, поумнеет…
— Бабы все одинаковые. Моя вчера с югов — кости грела, а сегодня хочу на дачу спихнуть… Ну, вздрогнем, что ли?
Зазвонил телефон.
— Слушаю, Виктор Иванович! Как раз эту тему прорабатываем. Да, про наличные сказал. Конечно, сразу доложу…
Он отсоединился.
— Витёк?
— Он самый. Выпить не даст…
Я дул на кофе.
— А вы по-прежнему преподаёте?
— Спросите лучше, кому. У студентов слова-паразиты, как костыли, — сбиться боятся…
— А есть с чего?
— Вот именно! Но самих не сдвинуть, житейскую мудрость усвоили крепко и — хватит.
— Может, и правда, хватит?
Я встал. Потом снова сел.
— Слыхал, «Павлин» в дурку загремел.
— Да ты что! И конкретно попал?
— Врачи говорят — депрессия.
— Надорвался, значит. Говорили ему, жадность фраера губит, жирным куском подавиться можно.
— Всем несладко.
Молчание.
— Как же теперь его контора? Надо думать, Витёк приберёт?
— Этот проглотит — и глазом не моргнет.
Молчание.
— Надо бы «Павлина» навестить.
— Думаешь, чего обломится?
Смех.
— Ну так, на всякий случай… Выпьем за него?
— Поехали!
Я закурил.
— А всё же, наши времена были счастливее.
— Ну всё, затыкаю уши!
— Нет, правда, измельчал народ. Раньше ехали сутки в одном купе, а потом всю жизнь дружили. А сейчас попробуйте спичек у соседа занять.
— Хомо хомини люпус эст.
Поднялись одновременно. Те, что помоложе, сели в машину, те, что постарше, подняли воротники и скрылись за поворотом.
«Тарас Беззубяк был деревенским. “В городе деньги, как снег — с неба валятся”, - услышал он раз от заезжего бродяги, которого угостил махрой. Тот сладко затягивался, пуская дым через драные ноздри, протыкал кольца всклоченной бородой. “Довольно на дядю горбатиться, — философствовал он. — Своими руками только петлю сплетёшь — пора чужими жар загребать!” Почесал Тарас затылок, продал избёнку, коровёнку и, повесив на сук лапти, отправился шапкой монеты ловить.
“Ты — Иванов?” — обратились к нему на столичном вокзале. Он мотнул головой. “Нет, ты — Иванов! — рассмеялись в лицо. — Но хоть и Иванов, а — седьмой!” И, заговорив зубы, вытащили кошелёк. А за ближайшим поворотом Тараса уже раздели донага — когда он мочился в уголке, унесли штаны, так что по улицам он шёл в чём мать родила, с единственной монетой за щекой. Но деревня задним умом сильна. “Где убыток — там и прибыток, — рассудил Тарас. — Бог взял — Бог и даст”. Редкие капли летели с неба, как из протекающего умывальника, а счастье неслось мимо в дорогих авто. И вдруг слышит Тарас голос: “Поправьте ваше финансовое положение!” Мигавшие огни приглашали в казино. “Мне сюда?” — спросил он маячившего у входа усатого швейцара. Чмокая губами, тот грыз селёдку. “Сюда, сюда…” — ухмыльнулся он, вытирая жир о ливрею.