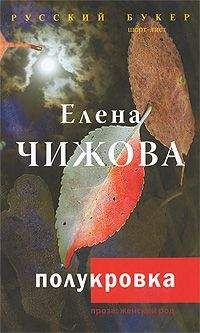Дед не верил в бога, но, слушая фронтовые сводки, убеждался в том, что если бог есть, его милость склоняется на немецкую сторону, а значит, национальный принцип, положенный в основу жертвенного отбора, признается им выше и правильнее классового. Чем безысходнее становились известия, тем яснее в душе профессора складывалось понимание: советское чудовище, чье сердце накрепко связано с фашистским собратом узами ревности, рано или поздно осознает тщетность классовых усилий, предпринятых в предвоенные годы. Голодный мозг деда рождал картины языческого жертвоприношения: советское чудовище, обратив взор на собственных евреев, должно было перенять национальный принцип отбора, тем самым пытаясь перенести на свою сторону немецкие военные удачи.
Победное наступление советских войск, совпавшее со смертью жены, преломилось в сознании Юлия Исидоровича отчаянной надеждой на то, что его пророчества оказались ложными. Чудовищная цена, которой оплачивалась приближающаяся победа, позволяла предположить, что на этот раз советское чудовище обошлось собственными силами, принеся привычную многонациональную гекатомбу. В конце сороковых, когда сын с невесткой все чаще переходили на шепот, дед должен был вспомнить и, оставив победные надежды, окончательно осознать свою блокадную правоту. Но этого, похоже, не случилось. Разрозненные записи деда, не говоря уж о его подготовленных к публикации рукописях, свидетельствовали: мозг, которому больше не грозила голодная смерть, возвратился к привычной идеологической баланде. Свою жизнь дед Юлия заканчивал в состоянии недомыслия.
Судя по датам, выведенным на папиросных листках, дед прервал свои записи незадолго до взятия Берлина. Вероятнее всего, именно тогда, дожидаясь возвращения сына, он заложил их в рабочие бумаги и забыл. А как иначе можно объяснить, что эти листки сохранились?
И все-таки они сохранились, и Юлий находил в этом особый смысл.
Теперь он решил действовать самостоятельно, используя подручные средства, точнее говоря, языки: немецкий и русский. Выкраивая время от переводов, ездил в Публичную библиотеку, где просиживал вечерами, пытаясь реанимировать дедовы голодные прозрения. Свою задачу Юлий видел в том, чтобы дать теоретическое обоснование дедовым догадкам. Хотел найти доказательства тому, что если прямые, условно называемые фашизмом и коммунизмом, пересекаются, точкой их пересечения становится антисемитизм.
Постепенно он приходил к осознанию: внутренняя политика СССР – в ее отношении к евреям – уже прошла существенную часть этого пути. Юлий думал о том, что нет больше ни религии, ни особого языка, ни странных обычаев и традиций, нет и самого слова еврей – оно изъято из обращения. Еще одно поколение, и страх, гуляющий на одной шестой суши, выветрит и еврейские имена...
Теперь он наконец сформулировал: дело не в личном антисемитизме Сталина, а в том, что антисемитский пафос, приглушенный советской победой, имманентно присущ самим язычникам-победителям. Так уж сложилось, что их Великая Октябрьская разворачивалась под лозунгами интернационализма. К концу сороковых советские идеологи как будто опомнились. Следуя практической логике, рано или поздно они доберутся до последнего и окончательного решения.
Нет, Юлий не представлял себе печи. В семидесятых годах XX века такое вряд ли возможно. Во всяком случае, до тех пор, пока экономика СССР зависит от Запада. Но в двадцатых это тоже казалось немыслимым – в те времена даже самый оптимистически настроенный антисемит не мог предвидеть такого развития событий. Тем не менее оно случилось. И началось отнюдь не с печей, а с системы ограничений и запретов, введенных нацистским государством. Один из них – запрет на профессию. Печи запылали потом.
Рассуждая исторически, такой вариант не исключался. Проблема состояла в том, что сам Юлий, положа руку на сердце, полагал это допущение невозможным. Сколько раз, проходя улицами родного города, он примеривал на него картинки, описанные в немецких книгах: желтые звезды, фигуры еврейских старцев, бредущих по обочине мостовой... Картинки казались безумием. Особенно звезды, нашитые на модные дубленки и куртки. Этим звездам пристали лапсердаки и ватные пальто...
И все-таки он думал о немецких евреях. Банкиры и промышленники не носили лапсердаков. Поэтому и успели вовремя собраться и пересечь океан. В ватных пальто ходили простые ремесленники – еврейское большинство. Впрочем, интеллигенция тоже одевалась по моде, но верила в цивилизованность немецкой нации. Эту веру многие сохранили до последнего: до самого лязга вагонных дверей...
В Советском Союзе банкиров нет. Еврейские интеллигенты позаботятся о себе сами: каждый сделает свой выбор – остаться или уезжать. Иное дело – простые обыватели, до сих пор верящие в идеи интернационализма. Эти останутся. Не задумываясь о том, чем рискуют их потомки: дожить до советских печей.
У Юлия не было мысли их защищать. Обыватели или не обыватели, все они – люди взрослые, а значит, должны отвечать за себя сами. Единственное, к чему он стремился, – обдумать пути, оставляющие надежду на спасение. Первый – простой, а значит, подходящий для обывателя: стать советским человеком. Отказаться от остатков еврейства.
«В объективном смысле, – он думал, – оторвавшиеся от веры своих предков уже идут по этому пути. Во имя своего шкурного спасения. Во всяком случае, спасения своих правнуков – потомков будущих смешанных браков».
Второй путь представлялся более сложным. Он предназначался тем, кто решит остаться, но не пожертвует своей исторической памятью. К таковым Юлий относил и себя.
«Новое еврейство... Однажды оно возникнет».
На этом месте мысль Юлия стопорилась. Новое еврейство, о котором он думал, оставалось понятием, лишенным очертаний и контура. Как ни пытался, он не находил нужных слов. Оно ускользало, виделось бесплотным, похожим на жизнь в блокадном городе, на подступах к которому стоят враги.
2
Юлий остановился и закрыл глаза. Под веками мельтешили золотистые мушки. Вся эта суета с покупкой продуктов выбила из колеи.
Последнее время мама часто заговаривала о Науме Шендеровиче, муже ее институтской подруги Цили. Дядю Наума Юлий, конечно, помнил, но как-то неотчетливо. В детстве они дружили с Ленькой. Теперь их семья проходила под рубрикой мамины знакомые.
С некоторым неудовольствием, которому Юлий не позволил проявиться, он выслушал задание: по списку, составленному накануне, закупить продукты, вино и водку для послезавтрашних поминок. Выполнив все, что от него ожидали, Юлий отговорился редакционными делами и на кладбище не поехал. На поминки он успел вовремя, за что получил благодарную улыбку матери. К таким вещам Екатерина Абрамовна относилась серьезно. Сочувственно пожав руку Леньке, чье лицо показалось осунувшимся и серым, он направился было на кухню, но, прислушавшись к разговору двух незнакомых женщин, которые только что вернулись с кладбища, узнал о героической истории. В ней фигурировала какая-то Мишина Маша – сочетание, которое Юлий принял за имя и фамилию. Этой девицей родственницы вроде бы восхищались, однако беседу закончили неопределенно: сошлись на том, что Маша пошла в мать.
Юлий пожал плечами и отступил в комнату, но в первом же разговоре, долетевшем до его слуха, Мишина Маша возникла снова. Смешавшись с группой Ленькиных родственников, ни одного из которых он не знал в лицо, Юлий разобрал детали: обсуждалась первоначальная могила, до краев заполненная водою, куда должны были опустить гроб. С ужасом вспоминая могильщиков, не пожелавших разделить чувств родных и знакомых, все удивлялись решимости Мишиной дочери, которая ринулась в контору и в одиночку управилась с местным начальством. Новая странность, которую Юлий отметил про себя, заключалась в том, что никто из собравшихся не задался простейшим вопросом: как она это сделала? Прислушиваясь уже заинтересованно, Юлий сообразил, что странности нет ни малейшей: всех занимал не способ решения задачи, а сам факт проявленной решимости. Девушка лет двадцати вошла в комнату. Разговор сник, и Юлий понял: эта девица и есть героиня.
Взгляд остановился на ее лице, и что-то невнятное пришло в голову: как та-та-та среди вороньей стаи... Так и не вспомнив строчки, Юлий перевел глаза, и мысль, привыкшая к одиночеству, потребовала уединенности: протиснувшись боком, он направился в ванную комнату, где погрузился в размышления. Кладбищенская сказка, которую он сегодня услышал, легко вписывалась в его логику. Живо он представлял себе жалкую группу, стоящую над водяной могилой. Кто-то, нелепо волнуясь, пытается урезонить могильщиков. С точки зрения спасительной теории их лица, достойные презрения, представлялись Юлию совершенно подходящими. Именно с такими лицами, знать не знающими непокорства, можно было стать правильными и своими в этом первобытнообщинном государстве. Недоумение, которое Юлий силился разрешить, сводилось к следующему: какого черта она взялась их защищать?