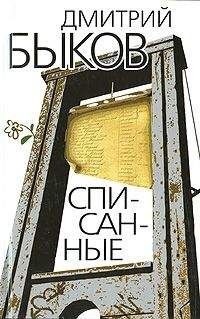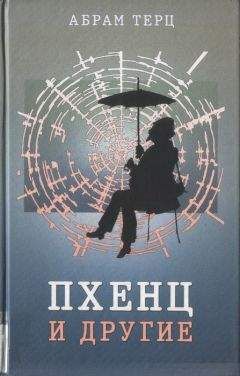— Кто по вызову, на диспансеризацию, заходим!
Свиридов был потрясен: поликлиника в этот день работала исключительно на них. На дверях висело объявление — красным фломастером на бланке главврача: «6 августа поликлиника работает по спецобслуживанию. Срочная помощь на дому — тел. 151-36-85». Надо же, подумал Свиридов, как все серьезно-то.
— Шестое августа по-старому, преображение Господне, — сказала с заискивающей улыбкой худая очкастая женщина лет тридцати. Свиридов не помнил случая, чтобы кто-нибудь шестого августа не процитировал эти стихи, хотя у него этот день ассоциировался прежде всего с Хиросимой. Но очкастую ему было жалко, она явно принадлежала к вымирающему типажу полуинтеллигентов, отставших от своего берега и не приставших к чужому; в сущности, он и сам был этой же породы.
— Смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа, — сказал он, не глядя на нее, дабы она не питала лишних надежд, принимая цитату за призыв. Он знал, что иногда простейший диалог типа «пароль — отзыв» значит больше любых утешений, и был вознагражден осторожным, царапающим поглаживанием по рукаву.
По коридору почти пробежал высокий бородач — такими изображают хирургов.
— Диспансеризуемых пригнали, Ксения Антоновна? — спросил он запускавшую их в вестибюль бабу в халате.
— По списку, Борис Львович! — рапортовала она.
Он кивнул и прошагал дальше. У него, наверное, все было хорошо. Бывают уверенные и веселые врачи, от которых пациенту легче, а бывают другие, не менее уверенные и веселые, при виде которых пациент немедленно смекает, что ему кранты. Чем первые отличаются от вторых — сказать невозможно, но первые умудряются транслировать больным свою энергию и силу, а вторые подчеркивают ее и тем окончательно отгораживаются от сирых и убогих. Это как-то на уровне жеста, взгляда (вставить в медицинский триллер): две категории врачей, один лечит, другой калечит, разницы в методах никакой. Ну, это все теперь из категории ЕБЖ — если буду жив. А жив я, кажется, не буду. Воображение всю жизнь спасало и кормило меня, а теперь оно — мое проклятие. Что живому хорошо, то мертвому смерть.
Диспансеризация была как диспансеризация — кровь, флюорография, пробег по специалистам с выкликанием списантов по алфавиту; как ни странно, примерно треть принесла спичечные коробки с дерьмом. Воистину, если завтра позовут на виселицу, половина припрется со своей веревкой; интересно, каких послаблений они рассчитывают добиться? Доктор, вот дерьмо; это вам, доктор! Может быть, теперь меня не на общие работы, а хоть в санчасть, хоть учетчиком, нормировщиком, придурком, — ведь я принес говно! Замечательный тест на выявление потенциально лояльных, срущих с опережением. Свиридова тоже спросили, при нем ли анализ, и после отрицательного ответа посмотрели неодобрительно. Впрочем, врачи вообще были недоброжелательны. Складывалось ощущение — как почти всегда на приемах в районных поликлиниках, — что их оторвали от чего-то бесконечно ^важного, куда более значимого, нежели обслуживание одинаковых, несчастных, дурно пахнущих людей. Всякий русский человек занят чем-то великим, а любую работу воспринимает как отвлечение, почему и ненавидит ее. Что он делает, глядя в пустоту? Мыслит мир. Этой молчаливой задумчивостью держится все. Врач не любит отвлекаться на пациентов, водопроводчик — на водопровод, учитель — на учеников; даже менты мутузят задержанного с явной брезгливостью, особенно злясь на то, что он отрывает их от главного. Но в случае со списантами вечная брезгливость врачей сопровождалась особой, дополнительной подозрительностью, словно именно им надлежало выявить общую тайну, главный критерий, сплотивший их всех в единый заговор. Окулист подозрительно долго проверял и перепроверял Свиридова, так что очередь зароптала, словно он был виноват в этой дотошности; хирург щупал и мял каждого так, словно норовил вывихнуть сустав; невропатолог с особенной яростью колотил молоточком по коленкам.
— Что-то мне не нравится ваш рефлекс, — сказал он Свиридову.
— А что такое? — испугался Свиридов.
— Сифилисом не болели? — не удостаивая его ответом, спрашивал невропатолог.
— Нет, — твердо сказал Свиридов.
— Ревматизмом?
— Нет.
— Аппендицит?
— Нет.
Невропатолог не поверил и осмотрел свиридовский живот на предмет шрама. Шрама не было.
— В общем, не нравится, — повторил он. Он был невысокий, лысеющий, пухлый, больше похожий на завскладом, и смотрел на Свиридова, как Коробочка на Чичикова: понимал, что его на чем-то нагревают, но никак не мог понять, на чем.
— И что мне делать? — спросил Свиридов.
— Это уж вам видней, — развел руками невропатолог. — Вы же в списке, не я.
— А что за список? — как можно беспечней спросил Свиридов.
Невропатолог выразительно посмотрел на него, пощипывая нижнюю губу, еще выразительнее кашлянул и сел к столу — вписывать что-то в карточку.
— Я тут вам пишу, что рекомендую лыжи, — буркнул он, не отрываясь. — У нас хорошая лыжная секция при управе, занятия три раза в месяц, москвичам скидка.
— Зачем? — не понял Свиридов.
— Вы что, не знаете? По итогам диспансеризации будут рекомендованы секции.
— Но мне некогда. Я работаю.
— Это уж не мое дело, — сказал невропатолог.
— Нет, минуточку, — возмутился Свиридов. Он теперь знал, что как в ране нельзя оставлять никакой грязи, так и ему теперь нельзя оставлять в собственной жизни никаких неясностей и недоговоренностей: все они немедленно будут истолкованы в наихудшем для него смысле. — Что именно вам не нравится в моем коленном рефлексе? Мы можем это прояснить?
Невропатолог поднял на него глаза.
— Вы специалист?
— Нет, но как-нибудь пойму.
— Это неспециалисту объяснять бесполезно.
— Понимаете, — проникновенно сказал Свиридов, — у нас вся беда в том, что никто ничего не объясняет. И поэтому люди делают ошибки. Им не объясняют, как должен выглядеть настоящий патриот, кто виноват в коррупции, куда мы движемся идеологически… И потому некоторые впадают, как Волга в Каспийское море, как поэт в неслыханную простоту, как шизофреник в кататонический ступор. Понимаете? Впадают и выпадают. А все потому, что нет адекватного объяснения, и многие остаются в недоумении, в недопонимании элементарных вещей. Которые, будучи объяснены, могли бы предотвратить довольно чудовищные последствия, разве не так?
Ему казалось, что сказанное достаточно абсурдно для попадания в стилистику, в какой прошли последние три недели его жизни. Алиса в стране чудес тоже все время думает, достаточно ли чуши она наворотила, чтобы быть принятой всерьез, но логика Алисы всегда хромает уже потому, что она логика.
— У психиатра были? — спросил невропатолог. Тактика у них у всех была простая: пока ты нормальный — они тебя морочат, а стоит тебе подделаться под их бред — записывают в психи. Свиридов должен был это предвидеть, конечно. Это нормальная тактика дворовой шпаны, у них на курсе был такой человек: если перед его матерными угрозами пасовали, он взвинчивал их до блатной концентрации, но если отвечали на его языке — тут же упрекал в бестактности.
— У психиатра, — очень спокойно сказал Свиридов, — я еще не был, как вы можете видеть из карты. Но я никогда не состоял на учете и прошу только ответить мне, в чем недостаточность моего коленного рефлекса.
— В его избыточности, — неприязненно ответил невропатолог. — Вы удовлетворены?
— Нет, конечно, — сказал Свиридов. — Да что поделаешь.
Он вышел и отправился к отоларингологу. Карту ему на руки не выдали — сестра потащила ее в соседний кабинет; секретность соблюдалась неукоснительно. Диспансеризация тянулась шестой час без перерыва — шутка ли, сто двадцать человек; многие списанты появились впервые. Со временем дотошность врачей не ослабевала, а напротив, возрастала, как учащаются навязчивые повторяющиеся действия у больного или усталого ребенка. Их подозрительность была сродни этим навязчивым ритуалам — они должны были выявить нечто важное, но, вот досада, не могли. Впрочем, Панкратову предложили госпитализацию — его провели по коридору прямо в приемный покой; он гнусно гыгыкал и бодрился. Свиридов не скрыл от себя, что чувствует глубочайшее удовлетворение.
— Осторожней там с сестричками, Макс! — крикнул ему Бобров.
— Бугага! — отозвался Панкратов, но чувствовалось, что ему крепко не по себе.
«Панкреатит», — прошелестело в очереди. Созвучие позабавило Свиридова.
Очередь разговаривала главным образом о медицине, ибо эта тема неисчерпаема. Если бы их позвали на футбол — они говорили бы о футболе, а так, понятно, о симптомах и самолечении. У каждого был сосед, умерший от ерунды — сковырнул прыщ, не долечил грипп; молодежь активно обсуждала последствия спортивных травм, средний возраст беседовал о суставах и молодеющем инсульте. Большинство, оказывается, пристально следило за малейшими переменами в состоянии организма, чутко реагировало на покалывания, держалось целебных диет. Никто не верил в кремлевскую (бренд, ничего больше); раздельная тоже успела себя скомпрометировать, в последнее время в моде была сальная, при которой в меню доминировало сало. Списанты были исключительно откровенны друг с другом: чего стыдиться-то, все свои, все равно уязвимы и, возможно, обречены. Широко обсуждались последствия употребления ксеникала, вплоть до жировых лужиц в экскрементах. В очереди к стоматологу спорили о ценах на протезы и дружно ругали «Мастердент».