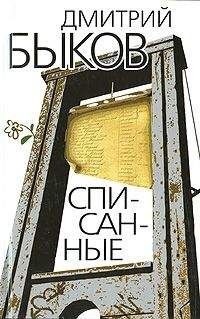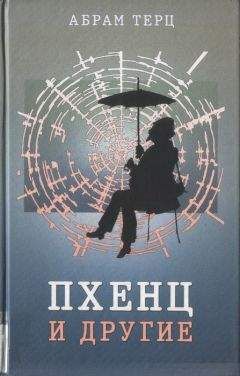— Осторожней там с сестричками, Макс! — крикнул ему Бобров.
— Бугага! — отозвался Панкратов, но чувствовалось, что ему крепко не по себе.
«Панкреатит», — прошелестело в очереди. Созвучие позабавило Свиридова.
Очередь разговаривала главным образом о медицине, ибо эта тема неисчерпаема. Если бы их позвали на футбол — они говорили бы о футболе, а так, понятно, о симптомах и самолечении. У каждого был сосед, умерший от ерунды — сковырнул прыщ, не долечил грипп; молодежь активно обсуждала последствия спортивных травм, средний возраст беседовал о суставах и молодеющем инсульте. Большинство, оказывается, пристально следило за малейшими переменами в состоянии организма, чутко реагировало на покалывания, держалось целебных диет. Никто не верил в кремлевскую (бренд, ничего больше); раздельная тоже успела себя скомпрометировать, в последнее время в моде была сальная, при которой в меню доминировало сало. Списанты были исключительно откровенны друг с другом: чего стыдиться-то, все свои, все равно уязвимы и, возможно, обречены. Широко обсуждались последствия употребления ксеникала, вплоть до жировых лужиц в экскрементах. В очереди к стоматологу спорили о ценах на протезы и дружно ругали «Мастердент».
Вот вы хотите, чтобы писали о современности, думал Свиридов, изо всех сил стараясь направить мысли подальше от диспансеризации, к спасительному островку профессии. Конкурсы сценариев, режиссеры алчут, продюсеры умоляют: современный сюжет! Но что об этой современности напишешь, какую глубину она предполагает? Давно уже все обесценили, свели к паркам, варкам, теркам. Страсти остались только в бандитском мире, ибо это последняя, прости Господи, зона, где существуют понятия; все остальные готовы идти куда угодно по первому сигналу и проходить диспансеризацию, стерилизацию, кастрацию, поголовную аппендэктомию, прививку, промывку мозгов, промывание желудка, санацию полости рта, далее по списку. Список стал главной формой жизни, литературы, любви, далее везде. Это уже не очередь — в очереди есть хотя бы иерархия, и все стоят за чем-то; здесь только список, подвергаемый разнообразны^ воздействиям и отобранный по неясному признаку. Что можно написать обо всех нас? Велик был бы тот, кто открыл бы причину нашего ужаса: чего мы так боимся, почему добровольно шествуем в мясорубку? В том, что это мясорубка, сомневаться уже не приходится: не для того же нас собрали, чтобы распихать по спортивным секциям. Что за страх? Откуда вечное чувство вины, с которым родишься? Такое бывает с недолюбленными детьми, уверенными, что с ними можно сделать что угодно; и если все мы недолюбленные дети, тогда понятно. Родина-таки крепко нас недолюбливает — вот парадокс, любимые редко вырастают благодарными, хрен чего от них дождешься, когда призовешь на выручку. А нелюбимые всегда готовы — они понимают всю хрупкость своего мира. У кого внутри хоть тончайшее подобие стержня — тому не так дико; но в нас же все перемолото, старым позвоночники переломали, а молодым негде их отрастить. Им там кажется, что так лучше: беспозвоночными легче править; но это же до первой встряски!
В сущности, чего я так боюсь? В печи-то не сожгут, в пещере не замуруют, что еще подскажут мне память и клаустрофобия? Тюрьма? — ив тюрьме люди живут, посвободней, чем на воле… Вот: я боюсь, что не имею права быть, что в моем появлении тут с самого начала есть роковая неправильность. Я сознаю это сам и больше всего боюсь, что скажут другие, вслух. Страна попавших не туда, общество ошибившихся местом, — придут, сгонят; это чувствуют все — умные и дураки, богатые и нищие, и даже те, кому нечего терять. Все мы боимся потому, что втайне сознаем преступность своего пребывания здесь; где же мое истинное место? И главное, где те прекрасные люди, которым все это — поля, тополя — принадлежит по праву? Что-то не вижу. Вижу только охрану, выпихивающую отсюда меня; но кому я должен уступить место? Сюжет: планета, откуда выгоняют всех пришельцев, но те, кем она населена, — не настоящее население. Это выродившаяся стража, вечно ждущая настоящего хозяина, как мессию; ведь у нас ровно та же история — стране никто не подходит, ею правят оставленные тут звероватые наместники захватчиков… где-то уже было, но не беда, аранжируем. Он пытался сочинять дальше, но мысли путались.
Диспансеризация все более превращалась в сонный кошмар, и когда она закончилась — никто уже в это не верил. Сбежавших, однако, не было. Списантов препроводили в актовый зал, до сих пор — со встречи нового, 200* года — расписанный снежинками и хвойными ветками. Вышел главврач — тот самый Борис Львович. Он садически долго откашливался, обводил всех ироническим взглядом, пил воду из мутно-желтого графина, один вид которого вызывал тошноту.
— Значит, меня просили кратко обрисовать вам перспективы районного здравоохранения, — сказал он насмешливо. — Что сказать, товарищи? Перспективы есть. За отчетный год мы детально обследовали 26 875 больных, у 87 процентов из которых выявлены заболевания разной степени тяжести. Более 70 процентов из этих больных, то есть примерно 65 процентов от общего числа, практически полностью излечены — ну, с незначительными остаточными явлениями, но я не стану грузить вас подробностями. Мы особенные сделали успехи в области, конечно, физиотерапии, в чем нам значительно, я подчеркиваю, значительно помог Минздрав, выделивший совершенно новые электроимпульсные аппараты «Радиус», чья эффективность — при лечении, скажем, ангин или катаральных явлений — на 26,5 процента выше, чем у традиционного УФО…
Никто не понимал, всерьез он все это рассказывает или утонченно издевается. Свиридов заметил, что Гусев тщательнейшим образом фиксирует цифры в особой книжечке.
— Но главное наше достижение, — сказал он с тяжелым вздохом, словно его вынуждали делиться сокровенным, — это, конечно, наши спортивные секции, о которых вы уже наслышаны. По результатам обследования вашего списка тридцати семи из вас мы можем рекомендовать — со скидкой, разумеется, потому что по медицинским показаниям, — регулярные занятия на нашей базе, плюс фитнес для всех со скидкой, если вы изъявите такое желание. Наш фитнес-центр работает на итальянском оборудовании, так что сами понимаете. Встает естественный вопрос об уклонении, и я отвечу в свою очередь уклончиво. Как говорится в школе, не обязательно, но желательно. На занятия в секции направлены: Драгоманова — биатлон, Дятликович — горные лыжи, Евтеева — теннис…
Свиридов с позорной дрожью в руках ждал, куда определят его, и был потрясен, услышав, что вместо рекомендованных невропатологом лыж он направлен в секцию фехтования, к которому сроду не чувствовал интереса. Гусев, Панкратов и Бобров упомянуты не были.
— Чумаков… ну, это неважно, извините. Все.
Рослый язвенник Чумаков с облегчением расхохотался.
— Ну, благодарю за сотрудничество, всего доброго, — попрощался Борис Львович и, не предложив задать вопросы, вечной своей побежкой покинул зал.
Свиридов еле сдерживал желание расхохотаться. Вероятно, это была реакция стыдного облегчения, миновавший шок; он уловил такую же блаженную улыбку на лице давешней училки, любительницы стихов, и обменялся понимающими взглядами. Переглянулся с ним и симпатичный коротышка с маленьким умным лицом и ежиком седеющих, соль с перцем, но не редеющих волос.
— И чего думаете? — спросил коротышка.
Свиридов пожал плечами.
— Бред и бред. В диверсионную группу не верю, как хотите.
— Версийки есть. Вам куда сейчас?
Они вышли вместе. Над «Соколом» разливался пыльный розовый закат, упоительно пахло сухой травой, бензином, поздним московским летом. В арке сталинского дома напротив тоненькая девочка в белом платье с синими цветами чеканила мяч, и это зрелище уравновешивало собою почти все, о чем не хотелось ни говорить, ни думать. Свиридов испугался, что все слишком хорошо, поискал возможную порчу, дабы она не застигла врасплох, и поймал себя на новом страхе: не караулит ли за углом Бобров? Но Боброва след простыл, и это был дополнительный повод для счастья.
— Я, честно говоря, предупредил жену, что могу не вернуться, — сказал коротышка. — Зовут меня, кстати, Глазов, Глеб Евгеньевич.
Глазов, как выяснилось, работал в «Общественном мнении», а по первому образованию был этологом, то есть до социальной психологии изучал звериную. Большой разницы, по его словам, не было.
— Я у вас «Пару» читал, — сообщил он, заговорщицки подмигивая.
«Пара» была первым сценарием, который сам Свиридов считал приличным: история молодых супругов, вдруг начавших ссориться насмерть. Тут было, конечно, не без Альки. Девушку трясло от диких приступов беспричинной ненависти к возлюбленному, мирно сопевшему рядом, и она решила обратиться к регрессивному психотерапевту, гарантировавшему отыскание роковых причин в ее прошлой жизни. Как выяснилось, в этой мы общаемся в основном с тем, кого знали в прошлой, и доигрываем старые драмы. История лихо закручивалась и элегантно разрешалась, и это была единственная вещь, которую Свиридов напечатал в «Альманахе».