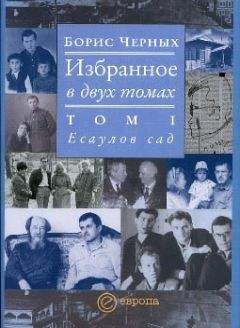– Костя, две банки, мигом, – Монаков протянул Косте записку для Аннушки, продавщицы, – стало быть, брал ответственность на себя и знал, что не выдадут, потому как свято: воскресенье, Ильин день, могли бы и не работать, а вышли без понуканья и все до единого.
– Ну, раз обчество просит! – отвечал, подобрав морщины, Костя, огрел дрезину хворостиной и наметом ушел в прорву тоннеля.
Пока ждали посланца, неистово расталкивали завал, вдохновились. Правда, Монакова пожалели, велев сидеть на припеке, командовать. Заслышав стукоток дрезины, оставили работу, умылись в озере, пригладили вихры. А когда выпили и отобедали, то длинно покурили в полыни. Гоша из полыни чистым голосом спел песню. Когда-то отец Гошин певал эту песню вместе с молодым Монаковым:
Туманятся воды, нет чайки прелестной
Она бездыханной лежит в камышах.
Шутя ее ранил охотник безвестный…
– А ведь я ухожу, мужики, – сказал Монаков. – Совсем ухожу. Да и пора, давно пора.
Все, засопев, молчали, а одногодок Монакова Никита Прасков заявил:
– Ты уходишь, и я следом. По тебе зарубку делал. Стоишь ты, я стою. А уходишь – и я ухожу.
– Аи, а чево и мне тута делать с синим крылом? – дурашливо сказал Иннокентий Рудых и задрал рукав, все предплечье и рука по локоть у Иннокентия в отеке.
– Эт как же тебя угораздило, Кеша? – вопросил Монаков.
– От тверезой жизни, – холодно отвечал Иннокентий. – Ране порцию горячительного приму, упаду по дороге, и ниче. А ныне тверезый оступился…
– Эх, Кеха, Кеха! – отвечал тут за всех Гоша Сокольников. – Тяжелые для трудящих времена настали.
– Беспросветные, – в тон Гоше сказал Монаков, но сказал так, что мужики рассмеялись и поднялись к работе.
Вместе с народом Монаков просуетился допоздна и едва донес тело до кровати. Мария Львовна разула и раздела, мокрым полотенцем утерла лицо.
Ночью, в потемках, он, внезапно очнувшись, услышал Костину дрезину, захлебнувшийся ее стукоток. Сердце Монакова поднялось и опало. По гравию громко шли – тюлевая занавеска пропускала речь, как крупная ячея рыбу. Костя хвалил благодатное место: горы что печи, греют поселок зимой, народ положительный, самогон гонят только к Рождеству и Пасхе, а озеро в трудную пору – война или недород – всегда на помощь придет.
Монаков услышал басок незнакомого человека, поднялся и, когда торкнули дверь, изобразил на лице отсутствие растерянности. Но приподнял голос – Костя замялся, уйти ему или остаться, любопытство распирало Костю.
– Завтра на день заряжайся и Павла подними, хватит бездельничать! – впервые на «ты» обратился.
Это потрясло Костю, съежившись, он ушел в темноту
– Зачем же вы так, Глеб Ильич? – виновато сказал гость. – Костя покладистый мужчина. —
Но уши Монакова ватой заложило.
– Покладистый. Давайте лучше отдыхать. Утром потолкуем.
Они разошлись по комнатам. Гость вскоре уснул, а Монаков проворочался до первых петухов.
Утром Монаков подошел к гостю, представился и оглядел его. Молодой инженер был долговяз и сутул, темнолиц, урийской породы, отметил Монаков и не ошибся, с жестким ежиком. Форменный новенький сюртук сидел кургузо и задиристо. Монаков объявил выговор ночной доброте Сергея Юрьевича. Тот присвистнул:
– А по рассказу Константина Семеновича вы сама кротость.
После завтрака Глеб Ильич и Сергей Юрьевич решили не ждать, а сходить и позвать Костю. Время для Кости теперь утерялось – обиделся выговором.
Улица, единственная в поселке, уходила в распадок и была пуста, но из окон, скрадываясь, женщины поглядывали на новенького.
– Бабоньки на ваш костюм не могут наглядеться, – ворчнул Монаков. – Ранее черный сюртук и белая сорочка, а теперь винегрет на рубахе.
– Мамин подарок в дорогу, – сказал Сергей Юрьевич. – Немаркая, самый раз для кочевья.
Костин дом на отшибе в горах, на высоком фундаменте. Постучали в тесовые ворота, но вместо отца вышел Павел в солдатском бушлате с малиновыми петлицами. Сергей Юрьевич мельком посмотрел на походную одежду Павла, Павел вяло отреагировал:
– Чего тебе?
– Во внутренних войсках служил?
– Зановь пойду скоро.
– То когда будет, – сказал непонятную фразу Монаков.
– Скоро, – отвечал Павел. – Раз этот приехал, значит, скоро.
Сергей Юрьевич посмотрел вопрошающе на Монакова, но Глеб Ильич проигнорировал немой его вопрос.
– Шумни отца, солдат! – приказал Монаков. – Со временем напряженка.
– Батя! – закричал Павел. – Имя невтерпеж.
Выкатился за калитку Костя. Он тоже был в бушлате с малиновыми петлицами, но бушлат у него мазутный, в заплатках.
– Костя, дружок, мы-то утеплились. – Монаков пощупал свою шинель. – А новый ваш начальник дуба даст. Прихвати душегрейку или ватник, а?
– Эт можно, – Костя ушел и вынес еще один бушлат Монаков и Сергей Юрьевич не стерпели и рассмеялись.
– Да где вы их берете, Костя, бушлаты-то солдатские?
– Не евонное дело спрашивать, – ответствовал Костя. – Евонное дело принять участок у тебя. Так я понимаю. Посля пущай спрашивает.
Вместе они пошли под гору. Поселок теперь как на ладони. Дома рубленые и у полотна железной дороги аккуратной кладки потемневшие здания, ровесники дороги, им скоро век.
К скальному вылету на той же единственной улице прилепилась школа. Голуби по карнизам. На свежеструганых бревнах мужики сидят. Приступ к школе по приказу Галимова рубят. С утра перекур, как заведено. В просторных окнах школы – учительши. Август, преддверие учебного года.
Монаков передал новичка учительницам, а сам отошел в сторонку и вдруг задумался – галимовское письмо поплыло перед глазами. Письмо привез и отдал утром Сергей Юрьевич. Кажется, было ему неловко – Галимов не запечатал конверт, и Сергей Юрьевич наверняка не утерпел, прочитал.
«Новые времена, новые люди, новые веяния (в письме стояло озорное, галимовское – веюния). Можно подумать, что я не умел выбить прибыль. Или Ты („ты“ с большой буквы) – не умел, а? Ну, не отчаивайся. Юноша – достойная замена Тебе, незаменимому. С передачей дел поторопись. А следом, кажись, и я… Притомился иноходец Галимов». И была приписка: «Всегда у русских есть в засаде Боброк».
Не все, но многое раскрывало письмо, и сейчас Монаков подумал о том, что свежая метла вместе с сором выметет и сильных хозяйственников. Ну, мне, положим, с молодыми не тягаться, укатали бурку крутые горки, но кто заменит Галимова с его хваткой и предприимчивостью.
А учителя между тем знакомились с Сергеем Юрьевичем.
– Костя сказал, – призналась красивая, черный бант выгодно оттенял белизну ее матового лица, – зверь, а не начальник приехал. Хлебнем, говорит, горя. А нам бы, Сергей Юрьевич, по осени завезти бурых помидоров, на кусту не вызревают. Хлеб пеклеванный через день привозит маневровый. Молоко есть. А овощи худо растут.
– И на каникулах свозить бы детей в область, в музеи. Глебушка считал блажью по городам детей возить. А тут можно и прокиснуть.
Сергей Юрьевич выслушал просьбы и откланялся. Но, отойдя, оглянулся – красивая смотрела ему вслед.
Сергей Юрьевич догнал Глеба Ильича, и они сошли под гору. Костя в зимнем бушлате у зеленой березы выглядел нелепо. Наверно, я тоже нелеп, подумал Сергей Юрьевич.
– Ну, ребятушки, – сказал Монаков, – вот я и поехал в последнюю свою дорогу.
Никто не отозвался на слова Монакова. Все умостились на дрезине.
По уговору решили начать с восточного участка, а завтра одолеют западный, но западный участок можно и не смотреть, там нет тоннелей и грунты на западном прочные.
По часам был расписан этот день у Монакова. Но грянул он, и словно кто маятник в груди придержал и отпустил, грузило потянуло цепочку дальше. Но лад порушен, и сердце будто охромело.
Воспоминания о веселой жизни на этом берегу давно не томили Монакова. Постепенно, день за днем, необходимость ухода дороги в горы становилась очевидной – там суше, континентальнее климат и нет стоклятых тоннелей, которые вечно грозят завалами и требуют сил физических и не меньше головных и нервных: передергивай фонды, хитри и ловчи, коли зарплату переплатил. Да как ее не переплатишь, когда надо мужика удержать и взрослых детей заманить, чтобы не бросили родителей на произвол судьбы. Для других открытая жизнь со сквозным движением на Хабаровск и на Иркутск, с вольным дыханием, с концертными бригадами, с борьбой честолюбий, с хитроватой, но все-таки борьбой за прибыль. А здесь забытость и тишина.
Кабы скит староверский, семейский, понятное дело. Иль церквушку бы сохранили, не спалили в те окаянные годы, – пусть с хилым попом, зато с престольными праздниками, исполненными сокровенного смысла. Но отынули и церквушку, ничем взамен не одарив, кроме лишений, большей частью придуманных сивыми выдвиженцами.
Но однажды мартовским днем заявился к Монакову татарин Галимов с мольбой о стакане крепкого чаю. Монаков велел Марии Львовне принести рябинового вина домашнего настоя. Галимов оценил рябиновое. Они проговорили до утра, отыскав много общего в воззрениях на подернутую ряской жизнь в государстве, а от государства вернулись к Кругоозерной дороге.