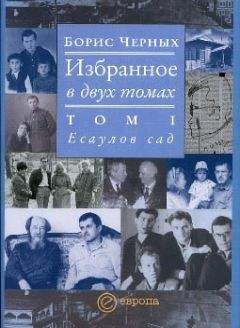В сильный дождь Костя пускал Монакова под грибок, но сам отходил в сторону, чтобы иметь запас на непредвиденный случай. И Монаков подшепетывал:
– Служба у вас, Костя, воинская, нет вам осуждения.
Так точно, нет осуждения мне и не может быть. Должность требует бдительности, я при должности, а путевой мастер не указ мне.
И когда дорогу увели в горы, Костя смело переступил порог монаковского кабинета, знал, не откажет, не имеет права морального отказать. И Монаков не отказал.
Но шло время. По Монакову, по уверенным усмешкам его и по нетребовательности к нему, к Косте, Костя с неосознанной тревогой силился что-то понять и, странное дело, жалел Монакова. Но тут же прикидывал: а чего его жалеть? Живет в достатке. Войну на брони просидел. Старуху в школу учительствовать не пускает. По бесплатному билету каждый год на запад ездит. Э, мне бы так, на белых простынях, с персональной дрезиной, с настойкой рябиновой. Ну, авось молодой инженер столкнет Монакова, и авось поезда дальнего следования побегут снова через Осежено…
Сергей Юрьевич наблюдал вчерашний путь и не узнавал его. Ночью все казалось заброшенно, даже строчки из школьной хрестоматии припомнились – когда дрезина проскакивала полустанки с одиноко маячившим окном:
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень…
И спрашивал себя Сергей Юрьевич: «Чего я ищу? Однокурсники по городам и узловым станциям осели, почти весь выпуск, а прошлый совсем не уезжал, в конструкторских и НОТах устроили судьбу, ловкачи. А меня понесло. А ведь давал маме слово – вернусь домой, в Ставровское предместье, на ту улицу, где Маленький портной все еще законодательствует в моде…»
А сейчас от ночной грусти не осталось и следа. Солнце поливало мир, блеск с озера слепил глаза. Избы, ночью чужие, блистали стеклами окон и цинковыми крышами. Возле летних печек округло двигались женщины. Все дышало теплом. Лебеда, хоть был август, стояла ярко-зеленой, как в лучшую пору. И Монаков глянулся молодому инженеру. Чистое и выметанное годами лицо, кроткий и погруженный, видимо, в прошлое взгляд.
Сергей Юрьевич не успел, правда, проникнуться подвижничеством, которое угадывалось в Монакове. «Чудило он, Глебушка, – донесли в порядке знакомства учителя, – прячется от больших городов, перемен боится, а перемены и здесь настигли нас, знать бы только какие».
Странное увиделось Сергею Юрьевичу и в облике Монакова, и в словах о нем; и прочитывалось нечто потерянное в отношениях между Костей и старшим мастером – подыгрывание народу и тому же Косте. Было это ново и не очень понятно по истокам, но одновременно казалось всего лишь забытым и внезапно вспомянутым, как вспоминается иногда раннее детство и ранние слезы. Тогда заново осмысляется прошлое. И себя осмысляешь заново.
Впрочем, осмысление себя в Сергее Юрьевиче началось давно, и больно. Их соседом по дому был немой Игнат, отзывчивый на ласку и добро, добротой Игната не гнушались пользоваться все кому не лень.
Как-то в десятом Элеонора, любимая физичка Сергея, повела класс на экскурсию в котельную. Гомонящей толпой они сошли с праздничного второго этажа и крутым коридором и узкой лестницей, почти корабельным трапом, попали в подвал, тусклая лампочка светила едва.
– Вот это, мальчики, котлы под сильным атмосферным давлением, – сказала Элеонора. Она смущалась всего, что было не в кабинете с декоративными приборами и плакатами.
А когда из полусумрака выступил человек, Элеонора Кондратьевна сказала:
– А это, ребята, кочегар.
Сергей покраснел до корней волос и пылал полдня. Этим кочегаром оказался добрый немтырь Игнат.
С тех пор, когда Сергею не терпелось прицениться к человеку, он тотчас вспоминал котельную под школой, своих одноклассников в светлых рубашках, себя, благополучного мальчика, и немого Игната, которого он знал с малых лет, но, оказывается, и не знал.
Потому он одернул себя и сейчас и велел не думать поспешно о Глебе Ильиче. Но напутствие Галимова вспомнилось кстати:
– Будь ласков со стариком на прощанье. А по мне, ремня бы всыпать ему. Не люблю непротивленцев. Злу и насилию надо отвечать добром, но тогда зачем вы собрались на Куликовом поле? Молебны служить? – Галимов приударил маленьким смуглым кулачком в грудь новичка. – Будешь драться, и с первым со мной. А? Не согласен?! Из ранних приспособленцев? Не выйдет! Не выгорит! – и рассмеялся, захлебываясь, но в захлебе успел сказать: – Эх, Глебушка, ему бы нормальные условия, золотой работник, умный и дальновидный, а жизнь ему выпала на смутные времена…
Сергей Юрьевич вывозюкался по колодцам, устал, перемерз и перегрелся и был рад, закончив наконец осмотр. Глеб Ильич знакомил на полустанках с народом, Сергей Юрьевич стеснялся сделать в разговоре техническую оплошность. Старшему мастеру могли простить все, а ему, он знал, не простили бы. Но все равно он держался уверенно, полунасмешливо. «С Глебом Ильичом выжили, а со мной запоете» – слова эти услышал Костя и зауважал новичка.
Домой возвращались в глубоких сумерках. Большие звезды вставали за каждым тоннелем. Костя не видел звезд, не признавая за ними прав на его внимание. Глеб Ильич, нахохлившись, молчал. И опять Сергею Юрьевичу сделалось грустно. Он обрадовался тому, что Павел отошел, и Сергей Юрьевич выпросил у Павла сигарету и подымил, роняя на ходу искры.
По прибытии Монаков позвал всех на ужин. Костя и Павел не отказались. Мария Львовна выставила рябиновку. Сергей Юрьевич пил тонким стаканом, блаженствовал, смотрел на Монакова. Костя тоже выпил, сразу побагровел, но ел деликатно и умеренно, поглядывал на сына.
– А вы, Павел, на тоннель пойдете, коли поезда пустят? – сквозь полузабытье услышался Глеб Ильич и услышался Павел:
– На тоннель? Пойду, однако! Спокойная работа. Сорок восемь часов гуляй не хочу, опять же паек, обмундировка.
– И, как ваш отец, будете зимой тыкать в снег старшего мастера?!
Ого, ого, что это с Глебом Ильичом? Зачем у него пальцы подрагивают и глаза подернулись влагой?
– Глеб Ильич, давненько нет той инструкции, отменили ее, по книжкам изучаем, – очнулся и сказал Сергей Юрьевич, спасая мир за столом.
– Хучь сто раз отменяй, – закричал, сердясь, Костя, – а бумагу, Пашка, у родного брата потребуй, личность на документе проверь! Без документа нет личности! Им только волю дай, антилигентам!
– Служба! – горько улыбнувшись, сказал Монаков.
– Служба она и есть, – повторил Костя.
– Да-а. А вы представьте, Сергей Юрьевич, уеду в Россию, сяду под яблоней, пчелы жужжат… Эх, укачу и не вспомню!
Костя колыхнулся:
– Хей-е! Вспомнишь, Глеб Ильич! Полжизни оставил небойсь здесь. Повозил я тебя, укатал на ухабах…
– Верно, Костя, не раз вспомню, – глядя товарищу в глаза, скорбно сказал Монаков и предложил стелиться.
– Спите ли вы, Глеб Ильич? – погодя спросил гость.
Монаков не спал, но он не хотел обидеть Сергею Юрьевича.
– Туманятся воды, – сказал Монаков из потемок, – и чайки прелестной нет.
Сергей Юрьевич вздохнул и на вздохе уснул. Ему приснились осенние забереги на озере Вербном, остров Дятлинка и дымка, в которой тонуло мамино лицо.
Утром он подумал – Боже, та жизнь ушла и ушла навеки.
1965, 1970
Иркутск
Дедушка мой корня невидного, в станичные атаманы по косорукости (одна рука у него была длинней другой) не избирался, а писарем при атамане служил, грамотным стало быть слыл. Но после вседержавной нашей революции грамота ему не потребовалось, выгоднее было показать себя затюканным. Дед уехал из станицы в Урийск, нанялся мастером на двухпоставную мельницу, уехало с ним и прозвище его – Косорук. Скоро вся округа стала съезжаться только к деду, соответственно и навар пошел. Зажил он вполне исправно, отделил моего отца. Стал я гостевать у деда. Городские власти сподобились и построили мелькомбинат, позвали деда, и там Косорук молол первосортно.
На мелькомбинате мужиков и баб собралось немало. Когда грянула великая, многострадальная, и вымела как веником всех мужиков, под чистую, дед будучи наиглавнейшим поначалу не тужил. Он знал, русская баба двужильная, нагрузи воз на нее, она потянет, с одышкой, но потянет. И вправду, тридцать солдаток управлялись лихо, бедовали, конечно, потому что режим устрожился вконец, щепотку овса не возьми в карман. Пришлось перейти к испытанному огороду, огород-то и выручал.
А похоронки, словно по желобу зерно, потекли на мелькомбинат одна за другой. К сорок третьему году выкосило половину помольщиков бывших. Дед, как умел, утешал вдов.
– Бабуля, – гостюя, спросил я однажды бабушку (уж и гуд в печной трубе остыл, а за окошком обмерла луна), – где наш дедушка? Почто он долго на мельнице? – по старинке мелькомбинат звали мельницей.
Кротко вздохнув, бабуля отвечала:
– Опять по лебедям пошел Косорук.