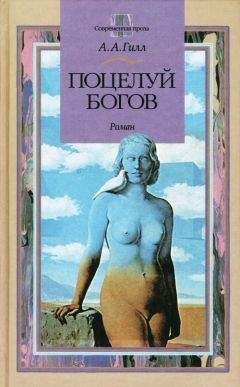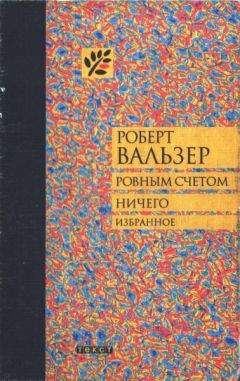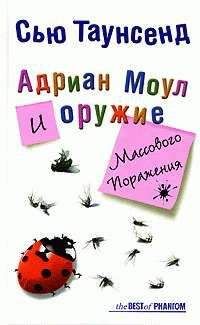— Ли, я хотел сказать…
— Не надо. Ненавижу прощаний. — Ли чмокнула Джона в щеку. — Позвони мне в «Коннот», как-нибудь пообедаем. Ну-ну, не кисни, все было хорошо. Когда-нибудь повторим. Бывай.
Дес был в холле.
— Привет, малыш! Надо же, кто к нам вернулся! Сладкий горошек, смуглый, как кофейное зернышко. Хорошо провел время? А она не завернет к нам на чашечку чая? Для тебя есть сообщения. Мама три раза звонила, сказала: от тебя скоро три месяца никаких вестей. Из магазина как-то звонили, Клив, миссис Пейшнз и еще твой издатель. Хочешь поужинаем? Не провансаль. Всего лишь холодное мясо с овощами, но можно добавить чесноку.
Джон открыл дверь в свою комнату и щелкнул выключателем. Помещение ответило взглядом спрятанного и перепрятанного заложника. Все было, как прежде, — знакомая атмосфера, словно вторым вдохом он втянул все ту же порцию воздуха. Отчаяние наедине с собой, согбенная жизнь, одиночество без перемен. Джон не спеша распаковал чемодан и разложил на кровати пеструю мешанину недавнего счастья: полотняные брюки с маленькой отметиной на колене и пять ярких рубашек. Положил на ткань ладонь и ощутил призрачное тепло, запах сигарет и духов Ли. В этой комнате его ждали слезы и не сомневались, что хозяин вернется. Убеги хоть на край земли, мы все равно здесь. Настанет час, и мы воссоединимся. Эти слезы куплены и оплачены. Джон промокнул тоску и отчаяние грубой ватой мансарды и лег на кровать. Круг замкнулся — он дома. Идти некуда, общаться не с кем.
Стук в дверь.
— Джон, ты проснулся? Тебе звонят.
Он вскочил на ноги и, испытав приступ головокружения, потер саднящие глаза.
— Да, да… Сколько времени?
Оказалось, уже поздно — одиннадцать. Джон сбежал по лестнице через две ступени и очутился в холле.
Трубка лежала рядом. Самый захватывающий дух романтический образ конца двадцатого века: покосившийся, обнаженный, без трубки, телефон. Джон прижался ухом к пластмассе и облокотился о стену.
— Слушаю.
— Вернулся? — проговорил Клив.
Потребовалось невероятно много времени, чтобы отыскать вход в больницу. Джон аккуратно следовал указателям, но таблички сами путались и не имели смысла направления. Сообщали бог знает что, противоречили и превращались в нечто иное. «Хорнчерч» обернулся «Уэбстером», который решил изменить свою суть и переиначился в «Кардиологию». Та, в свою очередь, обернулась часовней, которая стала «Сулливаном», тот «Урологией», потом «Гинекологией» и в итоге «Дневным стационаром». Наконец вслед за креслом на колесах Джон попал в травматологию.
Здесь стоял запах пива, блевотины и дезинфекции. Поперек лавки лежал бродяга и дергал головой. На одной бесконечной ноте плакал ребенок. Лицо матери побелело от страха. Она держала на руках другого — притихшего, с поврежденной ножкой. У стен люди нежно поглаживали части собственных тел: кто кисть, кто ногу, кто налившийся кровью глаз. Плачущую девчушку в спущенных чулках обнимал ежащийся в тонкой серебристой майке приятель и повторял: «Все будет хорошо. Вот увидишь, все будет хорошо». Но хорошо не получалось. Рыжеволосая кроха скрючилась, сипела, как скороварка, и время от времени слабо совала в рот антиастматический ингалятор. Еще один пьяница выл и буянил. Охранник прислонился спиной к стене. Кофеварка плевалась черной слизью.
Джон занял очередь. Перед ним стоял мужчина в клубном пиджаке с сыном на руках. Мальчик горел от страха и температуры.
— Очень высокая, — сообщил мужчина регистратору. — Только что поднялась. — В своем наряде он выглядел здесь нелепо. — Все случилось так внезапно. Уж не менингит ли? — Голос дрожал от страха. Он еле выговорил жуткое слово. Сестра записала фамилию.
— Тимми. Тим. Это мать называет его Тимми. А так он Тимоти.
Возраст, адрес, аллергия. Страх нарастал. Но мужчина старался оставаться отцом, каким всегда обещал быть — отцом, который способен уладить любую неприятность. Джон смотрел в его поникший затылок и почти слышал, как он истово, отчаянно молился.
Только не сына! Господи возьми все, что угодно, но только не его. Я помню, как он родился. Как я любил его мать. Я мог объять руками жизнь и поклялся поколениями, которые привели нас к этому мальчику, что буду всегда ему отцом — пообещал поддерживать до гробовой доски. Поймите, это мой час. Им оплачены все грубости, несправедливости, измены, заносчивость, невнимательность, ехидности, поэтому я должен его спасти. Защитить от опасности. Я обещал стоять в дверях, караулить мост и этой рукой поймать, когда он начнет падать. Грудью встречать темноту — развеивать кулаками, силой, умением, деньгами, своим положением. Бороться со всем, что способно ему повредить. Таков договор. Договор на право называться отцом. А хворь в сумерках за моей спиной пробралась к нему в кроватку, пока я брился. Мне нужно было сторожить рядом — со своим громким голосом, пером, адвокатами и кредитными карточками. Не допустить эту хворь к малышу.
Сестра впервые подняла на него глаза.
— Присаживайтесь. Кто-нибудь скоро придет. — Она погладила мальчика по руке. — Молодец, Тимми. — Регистраторша назвала его, как мать. — Мы тебе поможем.
Мужчина сел с таким видом, словно поставил на карту все свое состояние и тут же проиграл.
— Слушаю? — Сестра повернулась к Джону. Он начал объяснять. — Подождите, — прервала она. — Вы не туда попали. Вам надо в «Салливан». Следите за указателями.
В маленькой палате стояло шесть кроватей. В самом дальнем конце у окна бок о бок сидели Клив и Петра.
— Извини. Я заблудился. Что случилось?
Петра устало поднялась. Вокруг ее глаз багровели круги.
— Передозировка.
Дороти лежала на кровати с закрытыми глазами и разинутым ртом, по подушке рассыпались сальные волосы. Она казалась мертвой. И только действующая капельница подразумевала жизнь.
— Привет, Джон, — улыбнулся Клив. — Замечательный загар.
— Но почему? Что произошло?
— Не знаем. — Петра снова села. — Я пришла домой, что-то поделала, случайно заглянула к ней в комнату, а она на кровати едва живая. Еще повезло.
— Она поправится?
— Да! — с чувством подтвердил Клив.
— Наверное. Вовремя захватили. Сейчас проверяют, чего она наглоталась — наверное, таблеток от головной боли; снотворного или чего посильнее у нее не водилось.
— Ужасно. Мне очень жаль. Вы с ней говорили?
— Нет. Она без сознания. Мы с ней целый день.
— Я подумал, что тебе следует знать. — Клив выглядел смущенным.
— Да… конечно…
— Где ты был, Джон?
— В Сен-Тропезе.
В больничной обстановке название прозвучало смешным и оскорбительным.
— В Сен-Тропезе? — повторила Петра. — А почему не сказал мне? Как ты мог?
— Видишь ли… я попросил Клива все тебе объяснить… Здесь не место…
— Джон, ты был мне нужен. Нужен. — Она склонилась головой на кровать.
— Ну, сматываюсь, — поднялся Клив. — Проводишь Петру домой? — Он по-мужски приобнял товарища за плечи. — Я твой приятель и все такое, но ты, конечно, негодяй. Настоящий сукин сын. Все, молчу. Больше ни слова. Петра, пока. Увидимся завтра в магазине.
Джон сел на освободившийся стул и стал смотреть на неподвижное тело Дороти.
— Как ты мог? Как ты мог смыться? — повторяла Петра.
— Нам надо поговорить. Но не здесь и не сейчас.
— Сейчас. Мне надо сейчас. Я даже не знала, вернешься ты или нет. Интересно, если бы не Дороти, ты бы удосужился встретиться со мной?
— Да, но…
— Что «но»? Вот что я скажу. Только не перебивай меня, Джон. В прошлый раз, когда ты с ней сбежал, я тебя простила. Думала, ты просто дурак, но мы выше и сильнее этого. А сейчас ты по-настоящему меня обидел. Не представляешь, какую причинил боль и в каком я до сих пор отчаянии. — Она протянула над кроватью руку.
— Возьми. Сделай хоть это.
Джон повиновался. Ладонь оказалась холодной, липкой и требовательной.
— Петра…
— Не перебивай. — Ее глаза набухли слезами. — Слушай. Я все обдумала и собираюсь вернуть тебя себе. Сцену закатывать не стану и наказывать не буду. Что случилось, то случилось. Я тебя люблю и знаю, что ты меня тоже любишь.
Утверждение повисло между ними, как раз над недвижно-коматозным с нахимиченным желудком телом Дороти.
— Я тебя люблю и знаю, что ты меня тоже любишь. Правда? — Вопрос прозвучал, как молящий стон.
— Правда. Я тебя люблю, — трусливый ответ. — Только… — с трусливой оговоркой.
— Без всяких «только». Ты сказал, что ты меня любишь, и я знаю, что это так. Я люблю за нас обоих. И могу все исправить. Не знаю, что заставило тебя убежать, но я все исправлю.
— Не думаю, что у тебя получится. Мое бегство не имеет к тебе никакого отношения. Нам надо… Право, не знаю, как сказать.
Такой Петры Джон не знал. Она никогда не пробила, не ныла, не канючила. Всегда отличалась ковкостью — сталь-нержавейка. Непробиваемая — ни одной подвижной части.