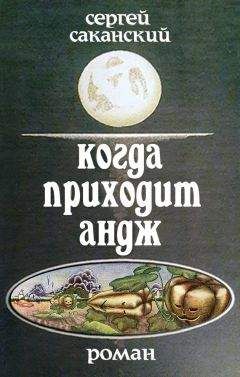Стаканский не мог придумать сюжета: все приходившие варианты были либо вторичны, либо глупы, выяснилось также, что он не может написать ни строчки о человеке, который был бы старше его, да и вообще — никак не ложился на бумагу никакой другой человек.
Героем его романа стал художник, он должен был пройти тяжкий путь от уверенного сознания собственной гениальности до полного разочарования в своих силах, концовка предполагалась открытой: он стоит на распутье, с ужасом понимая, что годы штудий растрачены зря, что жизнь свободного живописца, полная приключений и тайны, теперь превращается в самую заурядную растительную жизнь обыкновенного человека — с нищенской зарплатой, женой в халате, вечерним телевизором, медленным приближением смерти…
Стаканский реализовал один из вариантов своего бытия, хотя и не сомневался в том, что из него выйдет толк, и через десять лет — срок, казавшийся тогда неисчерпаемым — о нем заговорит весь мир, и судьба уже уверенно брала первые аккорды: как-то раз знакомый художник, подвязавшийся на звучащей подвижной скульптуре, металлических конструкциях, образующих зримую додекафонию, привел к нему волшебно пахнущую свободой, лишенную возраста француженку, которую почему-то звали Аврора, и она купила картину, отвалив немыслимую для него сумму, четыреста целковых — четыреста франков Винсента, само собой напрашивалось сравнение, услышанное в отрочестве от покойной бабули..
Картина называлась «Люди», на ней было изображено несколько миллиардов человек, причем, нельзя было разобрать ни одного лица, так как они стояли, опустив головы. Люди были обнажены, их фигуры, в перспективе сливались в однородную серую массу, которая была сущностью земли, взбиралась на холмы, заполняла овраги, образовывала берега дымной реки. Кое-где на светящихся столбах взлетали отдельные тела и, в перспективе уменьшаясь, вырастали редкие голубые деревья неземного образа… От картины веяло ужасом и смертельной тоской, вся ее прелесть была в невозможности единственно верного варианта истолкования: это могли быть и узники, и люди, погибшие в войнах, и просто люди, жившие на Земле, впрочем, ничто не доказывало, что художник нам изобразил именно Землю…
Вот эта монотипическая многоплановость, в сущности, обращение к единственному сознанию, умножение смысла картины на количество зрителей — было для Стаканского одним из главных рабочих принципов, его экзистенциальной концепцией. Увлекался он и чистой монотипией, свободным течением красок по мелованной бумаге, и в сочетании немыслимых форм и цветов зритель был волен видеть лишь то, что ему хотелось видеть. Возможно, если бы Стаканский дожил до открытия вернисажа в Битце, то стал бы богатым, преуспевающим живописцем…
А если всего-навсего Александра? Просто Шурочка?
Стаканский был человеком мечты. Предметы мира служили лишь манекенами для переодевания в новое качество, в собственную проекцию, удобно размещавшуюся в голове хозяина, составляя для единственного на Земле человека искусственный рай.
Стаканский выдумал себе друга, ровесника, он жил в далеком прелестном городе, автор построил для него довольно вместительный экзотический дом над самой водой, творчески развив сгоревшую дачу Майи, мысленно беседовал с ним и писал витиеватые письма (мысленно) невольно имитируя язык того литератора, которым увлекался в данный период.
Он вообще был склонен окружать себя воображаемыми фигурами, налюбленными фантомами души: когда-то в детстве у него был столь же мультипликационный, все понимающий отец, он умер в страшных муках с появлением настоящего. С отроческих лет в его ночном сознании завелась внимательная сонная женщина, она взрослела вместе с ним и с годами стала такой реальной, будто готова была материализоваться. Стаканский боялся, что она не умрет, когда у него появится настоящая…
Он слишком много фантазировал, не догадываясь об опасности этого занятия: за двадцать два года жизни внешний мир был значительно подменен внутренним, действие — замыслом, уже ушло в небытие несколько обдуманных и вовремя не написанных полотен, уже были исчерпаны — успешно прокручены в мозгу и забыты — увлекательные путешествия на байдарках, легкие, лишенные силы тяжести, восхождения в горы, и уже несколько женщин, каждая из которых, по закону вариантности, могла стать частью судьбы, прошли мимо, нетронутые, даже не подозревая, что в сознании Стаканского были венчаны, народили ему детей, состарились и умерли.
Стаканский редко пропускал лекции, не ерзал на месте, не игрался с соседями, не писал любовных записок — черт его знает — не будь он художником, не отличайся от других одной лишь деталью — умением рисовать, т. е. быстро и точно обводить плоскую проекцию своего поля зрения (казалось бы, так просто, почему мы все этого не умеем?) — то был бы он таким же, как все, жил студенческой жизнью, пьянствовал и блядовал, играл на лекциях во все эти игры — в Морской бой, в Крестики-нолики, в Жопу, в Пятку и в Сиську — но вся беда была в том, что он никогда не причислял себя к всеобщему братству — Gaudeamus igitur! — он был «я и они»…
Со стороны он казался прилежным студентом: вот он сидит где-нибудь посередине, кивает конспекту, смотрит на преподавателя, умно вытягивая губы, и тот, всегда чувствующий, кто пишет конспект, а кто имитирует, вступает с Стаканским в интимную зрительную связь, он все чаще посматривает на него, стуча мелом по доске и почесывая ногу о ногу, пространство расфокусируется, несущественные лица желтеют, тоном стремясь к мандаринам, лимонам, грейпфрутам, в центре этого дождливого цитрусового сада вскидывается лицо того самого, усатого, умного студента, и теперь ты читаешь только для него, постукивая по квадратному корню, подпрыгивая на месте и старчески припукивая, а между тем в тетради Стаканского, хотите в точечном, хотите в штриховом исполнении, возникают (Дай! Покажи! Ну че ты как этот-та?) монохромный портрет того жалкого, с ширинкой до колен, с переполненным мочевым пузырем, ни черта не понимающего ни в жизни, ни в предмете, который читает, как и все они, бездарные, тупенькие, вступающие в партию, всю жизнь проигравшие в Жопу, Пятку и Сиську, важно спешащие по коридору на заседание кафедры, — а вот уже и смерть близка, и яму можно увидеть, если привстать на цыпочки, за чужими лысинами — скучно, ну скучно же — господа…
Стаканский рисовал город, он ставил в центре листа первое здание, тщательно выводил его тончайшие черты, затем пристраивал к нему другое, и сразу намечалась улочка, она спускалась, горбатясь, к обширной площади, где вырастал гигантский пятиглавый собор, появление такой массивной фигуры требовало равновесия, и еще в нескольких местах поднимались высокие башни… Это был увлекательный пасьянс: здания вытягивали соседей за шпили, по закону гармонии, город разрастался, взбирался на холмы, доходя до отвесной стены гор и взлетая отдельными виллами на скалы. Вероятно, это и был тот самый город, где жил, сочиняя трогательные, ободряющие письма, его всегда мертвый единственный друг.
Результатом этих этюдов стала серия небольших вертикальных картин — город, чудесный, нигде, никогда не существовавший город, провинциальная столица какой-то иной, придуманной России… (несколько строк в рукописи неразборчивы, увы…) узкие улочки, неотвратимо сбегающие к реке, а над рекой парят стрижи, и мы вспоминаем, что действительно были счастливы в этом нарисованном городе, но счастливы недолго, так как всякое начало несет в себе свой же конец…
И Стаканский предлагал мечтать, безнадежно и сладко: с первого взгляда это был вполне уютный западный город, где зеркальные плоскости небоскребов отражали некогда высокие средневековые постройки, а по эстакадам двигались диковинные автомобили, лотки лавок ломились от яств, но слишком уж много было здесь чисто русского, православного — и купола, шлемовидные и луковичные, и сугубо наши деревья, и надписи реклам, сделанные на нашем дореволюционном языке, и, наконец, странная, невозможная подпись автора: Андрђй Стаканскiй, 1981, и сердце начинало радостно биться — хотя бы по мнению автора — я узнаю тебя, Россiя, какой ты могла быть в наши дни, если бы всего лишь несколько маленьких событий, несколько тончайших исторических завитушек… Но достаточно было одного взгляда за окно, чтобы отрезветь и, может быть, окончательно возненавидеть художника…
Та самая Аврора, прошелестев, сфотографировала несколько картин, в том числе и вышеупомянутые, и через полгода к Стаканскому пришли новые покупатели, «The last price — thousand» — замирая, проговорил он, и ему было немедленно отсчитано сто душистых червонцев одной серии, и русский город, свернувшись в трубки, укатил в Европу. Стаканский тупо смотрел на пустые подрамники, вмещающие теперь обстановку «мастерской», сравнивая их вид с видом пачки денег на столе, которая, словно еще не проросшее семя, хранит в себе невиданные вещи: фирменный магнитофон с полным собранием Beatles, Баха, Бетховена, фантастическое путешествие по России, давно вожделенную проститутку в развратных узорчатых чулках, и т. д. — бесконечно раскручиваемая спираль образов… Но уже через неделю облако тает на треть — кутеж с двумя скульпторами в Желторанге, где прелестная динамистка с круглой, ходящей вдаль попкой, оставляет ему фальшивый телефон и похмелье, пачка заряженного Беломора, выкуренная в депрессию и онанизм, несколько лихих прогонов на такси, а через неделю его вызывают в деканат, где огромного роста детина, странно на кого-то похожий, не здороваясь, хлопает себя по коленкам, встает, ведет его вниз, трубными коридорами в зону старшекурсных лабораторий, ключом отмыкает жестяную дверь, несколько минут молчит, перебирая на столе бумаги, Стаканский разглядывает за его спиной безликую гипсовую голову, которая с растительным звуком «стп!» — превращается то в Ленина, то в Дзержинского, и вдруг действительность входит в некое кинематографическое сновидение: Стаканский понимает, наконец, на кого похож этот большевик — на Короля, Конопляного Короля его детства, изнасиловавшего восьмилетнюю Майю на его глазах… Он и представить себе не может, что это и есть бывший сержант Митрофан Приходько собственной персоной, он же таинственный друг детства отца, устроивший его в МИРЕУ, также выросший среди декораций поселка НКВД и лет двадцать пять назад мучивший его красавицу-мать в кустах за Водокачкой, — Стаканский обо всем этом не знает, он принимает очередное явление Короля за обычное, много лет в разных лицах, в том числе, и в зеркале, преследовавшее его, — как Вы думаете, сцепив побелевшие пальцы, спрашивает его Король, почему Вы, не добрав полбалла, все же прошли в институт. Я Вам отвечу. Мы видели в Вас талантливого молодого художника, способного внести свою лепту в наш всеобщий созидательный труд. Вы не находите, что, мягко говоря, не оправдали нашего высокого доверия (почему-то с грузинским акцентом) Ведь эта ошибка может в любой момент выясниться… Сдавай валюту! — вдруг завопил он бабьим голосом и хрястнул ладонью по столу.