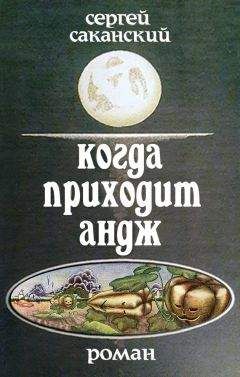Своими красками Рассольников рисовал розы, еще более прекрасные, невыведенных и неназванных сортов: Лиза приходила и с жадностью вынюхивала их до дна, а позже, когда они вяли, Рассольников собирал лепестки, и все начиналось сначала…
Вот какими чудаками были эти Рассольников и Лиза, и вряд ли стоит говорить, что их встреча была случайной игрой света и воображенья.
С тех пор, как начались у Рассольникова припадки мании преследованья, Лиза почему-то избегала его, и он не видел ее почти уже месяц, изредка соединяясь с нею по телефону…»
Под этот стук Стаканский засыпал, и роман отца продолжал сниться ему, и он видел страдающего героя, полного душевной и телесной боли, его взбалмошную любовницу, пустой мрачный город, где они ходили в потемках, и, поскольку сон был все же его, Стаканский сам оказывался на месте персонажа и гулко ходил всю ночь, преследуемый ужасом…
Все в этом романе было неестественным, вымученным, Стаканский думал, что и он мог бы так написать, занимайся он этим профессионально. Неприятным было и высокомерие, с которым автор относился к читателю: он водил читателя за нос, обманывал его ожиданья, часто подсовывал пародийный, как бы подложный текст. Чего стоили только эти старинные окончания на «нье» и «нья»…
Где-то посередине Стаканский понял, в чем природа странного впечатления пустоты и одиночества: мир, предлагаемый романом отца, был никем не населен, никакие другие люди, кроме двух влюбленных чудаков, в романе не упоминались, ни прямо, ни косвенно — пустыми были московские улицы и площади, трамваи, вагоны метро, ветер гнал по платформе клочки газет, вхолостую работали эскалаторы, и лишь смутные следы остались от провалившегося куда-то населения — то дымящийся окурок на лестнице, то запах пука в лифте…
Акулина, Андрона, Арина?
С каждым годом отец пил все больше, надолго уходя в беспросветные запои, и однажды Стаканский, вернувшись с Юга, еще в прихожей услышал вонь и обнаружил его в ванне, примерно на две трети заполненной водой, но это уже конец романа, вернее, другой, дрожащий где-то рядом вариант реальности, и прежде случилось много драматических событий, связующих сына и отца.
Агата, Ариадна, Аглаида?
Он увлекся образом паутины, огромной свисающей паутины, умеющий преломить мир, показать его обнаженный скелет. Альбом художника стал каталогом всевозможных форм и размеров (всюду по углам заседают, бегут, раскачиваются на нитях, хохочут — громадные жирные пауки) — нет, он не штудировал энтомологических книг, составленных под редакцией маститых паукообразных, не охотился в лесной глуши с остро отточенным серым карандашом, как Паганель, или какой-нибудь там Набоков — он создавал образ паучности, неповторимый, никем не запатентованный способ ее написания, ведь великим художником стать легко: достаточно найти свою манеру элементарных вещей — роз, женских торсов, облаков, самых достойных и видных деталей конструкции мира… Почти на самом острие мыса Пицунда, вместо того, чтобы с упоением тратить кобальт и железную лазурь, церулеум и ультрамарин, на виноградной веранде посиживал и посвистывал в этюдник лучший в мире изобретатель паутин, любитель самых сырых и темных подвалов, где привольно себя чувствуют лишь могильные черви — странно, правда? Он еще не знал, для чего ему понадобится именно это явление природы, но какая-то единственная в мире композиция — заросший гигантскими паутинами лес или город, или, может быть, заросший гигантскими паутинами интерьер или натюрморт (почему бы даже не портрет, жанровая сцена?) уже существовали совсем рядом во времени, и стоило только повернуться, чтобы скопировать видение, и главное — ни на миг не забывать суть открытия, сделанного в штудиях: паутину, как и стекло, писать не надо, писать надо предметы, расположенные за паутиной или стеклом… В это самое время, в двух тысячах километрах на северо-запад, захлебнулся в горячей ванне его никудышный пьяный отец — но это уже конец романа, вернее, другой его вариант…
Альбина? Аделаида? Ада?
Аа-а? Аа-аа? А-а? (Когда-то, когда-нибудь, ты…) — звучала год за годом неоконченная строка, и однажды, перевалив на последний курс, зимой, он невзначай услышал на лестнице высокоголосое:
— Анжела!
Это крикнула, свесившись с перил, худая белокурая девушка. Стаканский посмотрел вместе с нею и увидел лишь лестницу.
— Можно упасть, — ласково сказал он.
Они разговорились. Первокурсницу звали Лера. На улице он купил два эскимо, и пришлось присесть в скверике, затем их внимание привлекла афиша, и в темноте кинозала он вроде невзначай положил ей руку на остренькое колено и как бы забыл убрать. Это был типичный вариант с возрастающей последовательностью действий, весьма распространенная молодежная игра, тайная прелесть которой составляли лишь промежуточные ходы, — легкая, если бы Стаканский хоть раз прежде играл в нее.
Дома Лера страстно рассматривала сувениры отца — раковины с Карибского моря, где он никогда не был и не будет, небольшие тропические деревья, выхоженные тут же из семян в возрастающих цветочных горшках.
— «Каменный гусь», — прочла Лера название романа о Рассольникове и заливисто рассмеялась, потом прочитала несколько строк наугад:
— Лиза любила однотонные, необычайно яркие ткани, их удивительное звучание овладевало пальцами, когда за больно страдающим цветом она видела четкие тени своей руки… Ну и дичь! Омерзительно.
— Пахан сейчас в Ялте, — небрежно пояснил Стаканский, делая необходимые приготовления в виде бутербродов и кофе.
— Вот как? У нас на курсе тоже есть одна ялтинка.
— Какая же ты дура, — с нежностью подумал Стаканский, пытаясь приобнять девушку, но та, вопреки логике событий, выскользнула и закружилась по комнате, спланировала в кресло и вдруг замерла, словно испуганная моль. Под крыльями у нее была гладкая белая, почти голубая кожа, Стаканский решил повторить приступ после кофе, ткнувшись, как бычок, в ее неаппетитные губы, но Лера подставила ладошку и засмеялась:
— Нет-нет! Только не сейчас…
— Да-да, понимаю! — сказал Стаканский и часто закивал, отчего девушка еще больше развеселилась.
— Каменный гусь! — вспомнила она. — Умора!
— Не теперь так когда-нибудь, — успокаивающе подумал Стаканский, играя сам себе какого-то маститого донжуана… Все это время внутри происходило следующее: по спине самоуверенного молодого человека струился пот, печоринские словечки рождались в мучительной цензуре, он немного любовался девушкой, находя в ней, некрасавице, хотя бы неизбежную прелесть другого пола, и одновременно — до бешенства ненавидел ее: за то, что она некрасива, остра, истерична, да и вообще не та.
Кончилось тем, что ему пришлось провожать ее по ночному городу, возвращаться в Измайлово на мусорке…
Через несколько дней он был приглашен к своей новой возлюбленной на рандеву в общагу и выслушал обстоятельный рассказ о ее недавней роковой любви, на коей она обожглась, чуть не свела счеты с жизнью, приняв смертельную дозу люминала и, для верности, выпрыгнув из окна, но вот беда: она зацепилась за ветки, а яд вывели промыванием.
— Так противно: засовывают в тебя резиновую трубу и продувают, как лягушку! Вспомнить тошно.
Стаканского действительно чуть не стошнило от ее слов, к тому же, от всей этой девушки так дурно пахло, что он украдкой беззвучно пукнул, чтобы хоть поменять запах…
— О-о-о-о! — раскачивала она головой, обняв щеки ладошками, и на сей раз позволила себя умеренно поцеловать, но когда Стаканский нерешительно потянул ее к будуару, выскользнула из рук, как мокрица, которую вечно и безуспешно пытаешься схватить пальцами:
— Нет, не здесь!
Стаканский не то чтобы не понимал, что в таких случаях надо лишь чуть применить силу — он вообще панически боялся насилия, независимо от того, к нему ли оно было направлено или от него. Неужели это все же где-нибудь когда-нибудь произойдет, — думал он, замирая… Анжела в тот вечер так и не появилась, но в последующие встречи Стаканского с его ошибочной Лерой мастерски напоминала о себе: как-то раз Стаканский заметил на столе у Леры ее конспект и увидел острыми буквами высеченную ее фамилию — Анжела Мыльник — другой раз в дверь просунулась смуглая музыкальная рука и часто постучала с внутренней стороны (— Зайди, Анжелка! — Нет, сама выйди на минутку, — низкий, чуть хриплый голос курящей женщины… Лера просунула в щель длинный темнокрасный шарф, то ли возвращая, то ли отдавая в прокат, они недолго пошептались, причем, видна была на полу нечеткая Анжелина тень)
Редкие изнурительные поцелуи, продолжение романа о ее столь несчастной любви, трактат о способах ухода из жизни, похотливое пожирание мороженого, бледноголубая кожа, жалость к себе, к своей девушке, — Стаканский знал, что с окончательным проявлением Анжелы, выполнив свою связующую роль, эта мучительная Лера исчезнет навсегда, что, впрочем, весьма легко сделать — стоит только заменить одну букву ее имени…