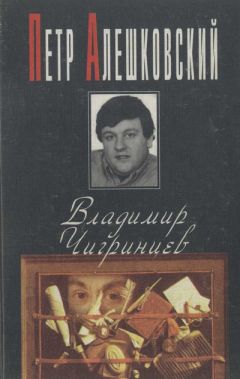Профессор казался бы не так и плох, кабы не глаза, — щеки немного округлились, на них появился слабый румянец, но глаза ушли вглубь, смотрели по-собачьи беспомощно и почти не двигались. В нем появилась заторможенность, руки медленно оживали на подлокотнике глубокого вольтеровского кресла, шевелились и опять застывали, как у Восковой Персоны. Кожа стала сухой пергамент. Вдобавок начался Паркинсон — худая желтая нога вдруг принималась подпрыгивать, дрожь от нее переходила на тело, уголок стеганого халата колотился по лодыжке. Пальцы скребли кожу подлокотника, рука с силой отрывалась, падала на колено, он наклонялся вперед, всем телом налегал — тогда дрожь угасала.
— Трясунчик, черт побери, замучил, это все от холода, — с трудом поднял голову. — Опять расхлебенила форточки?
— Да нет же, папа, все закрыто. — В голосе Татьяны сквозила неприкрытая обида.
— Так я и поверил. Садись, садись, в ногах правды нет, — кивнул Воле на приветствие. — Уморит и глазом не моргнет. Кукушка воробью пробила темя за то, что он кормил ее все время, — с былой ехидцей произнес Профессор.
— Опять, опять концерт начинается? — Татьяна начинала заводиться.
— Принеси нам кофе, — не глядя, приказал Павел Сергеевич. Он говорил медленно, но вполне внятно.
— Ты же знаешь, кофе нельзя.
— Так-так, Воля, мир разделился на «можно» и «нельзя», а «можно» — это, конечно же, гадость.
Воля неловко кивнул. Нога опять запрыгала, Профессор с трудом унял дрожь, криво ухмыльнулся, снова процитировал:
— Родная дочь, ничтожен я и стар. Не откажи, молю я на коленях, дай мне одежду, пищу и постель! и кофе, кофе, я хочу кофе! — прокричал он высоким голосом, но закашлялся, закатил глаза, дрожащей рукой затеребил отворот халата.
— Вот, погляди, так каждый день, стыдно, стыдно, папа, сколько можно издеваться! — прокричала Татьяна и пулей вылетела из комнаты.
— Шекспир у них не в моде, — констатировал Павел Сергеевич шепотом, поборов одышку. — Дай воды!
Воля подал стакан с журнального столика, забитого лекарствами, там же лежала газета и листы рукописи. Поборов отвращение, Павел Сергеевич отхлебнул:
— Гадость! Я хочу горячего, пахучего кофе, а эта дуреха… Еще обижается. Ладно. Бог с ней. Я и правда ничтожен и стар. — Он закрыл глаза и долго сидел не шелохнувшись, держа в руке хрупкий стакан. Волю он как будто не замечал.
В комнате нестерпимо воняло мочой и лекарствами — воздух был недвижим и сгущен, как перед сильной грозой. Павел Сергеевич не вызывал жалости, хотя игра его явно на то и была рассчитана. Он вспомнил лучащиеся глаза в палате — нет, теперь перед ним сидел отвратительный, требовательный старик, Профессор, центр вселенной, каким он умел быть и до болезни.
Театр наконец ему надоел, Павел Сергеевич очнулся, сам отставил стакан, слегка наклонил голову:
— Ну, как съездил?
Воля принялся рассказывать. Профессор сидел нахохлившись, полузакрыв глаза, не перебивал — слышал ли?
— Значит, страху натерпелся? — сказал наконец с механической интонацией. — Страх — это хорошо, значит, живешь. Я теперь ничего не боюсь. Ты тоже на сказочку купился. Я всю жизнь верил, так интересней было. Нет там ничего, конечно, нет. Сказка — ложь, так?
— Выходит, что так, — вежливо согласился Воля.
— А что важней — сказка или реальность?
Чигринцеву стало неуютно — ничего не выражающие, мутные глаза уставились на него. Как в трансе, Павел Сергеевич выдавал слова:
— Так что важней? Вот — документ. Я их тысячи прочитал. Думаешь, знаю правду? А другой повернет — и по-другому прочтет. А третий — по-третьему. Где логика? Пошел бы на мехмат, жил бы всю жизнь в четких формулах. Ты знал, что я собирался на мехмат сперва поступать?
— Нет, Павел Сергеевич, никогда не слышал, — признался Воля.
— Собирался, но передумал. Воображал, что-то пойму. А всю жизнь сочинял сказки и жил как в сказке. Теперь просто живу, оказывается, это скучное занятие.
Воля тактично смолчал.
— Хорошо, что молчишь, ценю, я теперь редко болтаю, бабы, они не понимают, им либо командовать, либо обижаться. Бабы… Дербетевых больше не будет, вот что плохо, да и мои девки бесплодные пока.
— Погодите, еще не вечер.
— Вечер, вечер, Воля. Потухла свечка, вот мы и в потемках, — всю жизнь любил цитировать, помогает… Татьяна вот в другую сказочку уверовала, упорхнет с этим прощелыгой вслед за сестрой.
— С чего вы взяли, Павел Сергеевич? И тетушка то же поет.
— А у нас тут теперь филиал бизнес-центра, — сказал он вдруг зло. — Я ведь по квартире брожу, слышу. Впрочем, я не судья, жалко, королевство опустело, зря я Лира, что ли, цитировал?
— Какие сказки, Павел Сергеевич, сплошная жизнь, голая и порой даже веселая. — Иносказания стали Чигринцеву надоедать.
— По молодости все весело. Меня теперь никто не спросит и не послушается — стариков не слушают. Помнишь: «Мне на плечи бросается век-вурдалак…» — Он опять театрально закатил глаза и застыл.
— Там был волкодав, Павел Сергеевич.
— Да? А я прочитал вурдалак. Вурдалака, кстати, Пушкин придумал. Вурдалак — точнее, он мне все на плечи бросался. Сосал, сосал и высосал до дна, теперь не боюсь, — произнес он устало.
— Павел Сергеевич… — Воля попытался перебить, но сухая рука поднялась, остановила на полуслове.
— Утешения ни к чему. Я не плачусь, не размышляю, я болтаю. Мне и поболтать теперь редко приходится. Ты, впрочем, иди, оставь меня, сил нет. — Он уронил подбородок на грудь, опять закрыл глаза. — Да позови мою дуреху, надо мне, холодно, — промычал сквозь сжатые губы.
Воля укутал его пледом, но Павел Сергеевич никак не отреагировал. Застыл в кресле, только грудь тяжело вздымалась, похоже, он спал.
Татьяна ждала на кухне, Чигринцев передал просьбу, она убежала и вернулась через минуту.
— Он звал? — спросила резко.
— Конечно, неужели…
— Да, да, — перебила его. — Вот видишь, а как я пришла, прогнал и обругал, что я его разбудила. Понял? Нет, к этому нельзя привыкнуть, раньше, до болезни, он хоть в уме был, а теперь так — в полубреду. Иной раз бормочет, бормочет и обижается, что я не понимаю. И ведь не хочет, не хочет подниматься, а зачем, говорит. И глазки строит.
— Таня, он угасает.
— Перестань! Не пори чепухи, это реакция организма. Ему, бедняжке, два раза давали наркоз. А ты понимаешь, что это для мозга, для сердца, с его-то болячками? Сволочи! Нет, он поправится, совсем поправится, Сережа выписал какие-то бесподобные витамины. Понимаешь, в Америке он давно бы был на ногах. Ведь повторная операция — брак, они что-то там не зашили. Сережа говорит, в Штатах такого хирурга сразу бы дисквалифицировали. Просто мозг и сердце, Воля, они онемели. Но он оттает.
— Мы же не в Америке… — Он попытался спустить ее с небес на землю.
— И жаль, очень жаль, там рак — обыденная операция. Послушай, я консультировалась, его зарезали, вторая операция была не нужна. — Лицо ее источало открытую ненависть.
— Не сходи с ума, врачи сделали что смогли.
— Ладно, — обрубила она жестко, — ты ничего не понимаешь. Спасибо, Воля, ты иди, скоро Сережа привезет кардиолога. Сегодня заезжал Самвелян, реаниматор, помнишь, он папе меняет трубочки, следит за ним. Он оказался добрым человеком, это еще в больнице было видно. А Цимбалин, сволочь, нет, ты представь — раза два позвонил, и все. Сволочь, коновал, мясник!
— Я пойду, Таня.
— Спасибо, я ничего не забыла, тут просто все, понимаешь… — Наконец-то нежно его обняла и оттолкнула: — Спасибо, позвони вечером.
В прощании не было прежнего тепла, она вся погрузилась в свое горе. Воля знал, что тут он бессилен чем-то помочь.
5
Вечером, без приглашения, заявился Аристов. Трезвый и мрачный, сидел на кухонной тахте, пил чай с медом, слушал Волины байки про щебетовскую родню, со скучающим видом поглядывал в окно на падающий снег. Потом не выдержал, перебил, принялся расписывать поступившее ему предложение — старый одногруппник по университету звал в дело, торговать офисной мебелью.
Аристов рисовал золотые горы и упрямо твердил: «Что же прозябать? Считать копейки?» — и строил, и строил проекты, в которые, похоже, заставил себя уверовать. Наконец не выдержал, почти закричал:
— Сам-то, сам, поехал за кладом, ведь верил же, думал, Татьяна клюнет, ну, признайся! — Выдал себя наконец.
— Как тебе объяснить? — ответил Воля строго. — Я скорее поверил в сказку. И не жалею. Единственное человеческое желание: «раз! — и проснулся богатым». Да и это не главное — надо было положить конец легенде.
— Положил? — Аристов немедленно отыгрался.
— Положил, положил с прибором, — рассмеялся Чигринцев. — Нам с тобой миллионами не крутить, не жили богато, неча начинать.
— Княжнин со мной об заклад спорил, что ты поедешь, — заметил вдруг Аристов многозначительно.