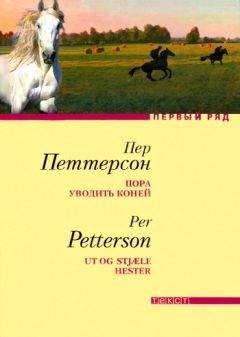— Ты глухой?
— Что? — тявкнул он совсем по-собачьи.
— Ты глухой? — продолжал я. — Ты не слышишь, когда с тобой разговаривают? Вынь морковки из ушей. Ты можешь мне сказать, где у вас «Вермландсбанк»? Мы его ищем. Это тебе непонятно?
Ему было всё непонятно. Он не понимал ни слова из того, что я говорил. Смех да и только. Он только таращился на меня и медленно дергал головой с испугом в глазах, как будто перед ним стоял псих, сбежавший из желтого дома, и теперь ему нужно только тянуть время, дожидаясь, пока прибегут санитары и уведут своего пациента назад, пока ничего не стряслось.
— Может, тебе в зубы съездить? — спросил я. Раз он ни черта не понимает, можно нести всё, что вздумается. К тому же я был одного с ним роста и в отличной физической форме после такого лета, когда я в основном только и делал, что надрывал пупок на разных работах в быстром темпе. Я растягивал свое тело наклонами во всех направлениях, поднимал все подряд, тянул и тягал камни и бревна, греб и вверх и вниз по реке, несчетное число раз колесил между Нильсенбаккен и Восточным вокзалом большую часть позднего августа. Я чувствовал себя сильным и как-то странно неуязвимым. Мой собеседник был далеко не атлетического сложения, но, похоже, мое последнее предложение оказалось для него понятнее остальных, потому что взгляд у него стал очень настороженным. А глаза забегали.
— Может, тебе в зубы съездить? Если хочешь, могу немедленно устроить, а то у меня руки чешутся. Так что обращайся, — сказал я.
— Нет, — ответил он.
— Что? — спросил я.
— Нет, — сказал он. — Мне не надо в зубы. Если ты меня ударишь, я вызову полицию. — Он говорил, отчетливо артикулируя, как актер. Меня это дико раздражало.
— Сейчас посмотрим, как ты это сделаешь, — сказал я и почувствовал, что пальцы непроизвольно сжались в кулак. Я сам удивился, я не понимал, откуда рождаются эти слова, которые я слышал произносимыми своим голосом.
Я никогда не говорил ничего подобного людям, ни знакомым мне, ни тем более не знакомым. И вдруг до меня дошло, что от того небольшого камня из булыжной мостовой, на котором я стоял, шли ниточки во все стороны, как в тщательно нарисованной диаграмме со мной в центре круга, и теперь, пятьдесят лет спустя, я могу закрыть глаза и увидеть эти ниточки совершенно отчетливо, как светящиеся стрелки, и если тем осенним днем в Карлстаде я был не в состоянии разглядеть их с той же ясностью, то я явственно чувствовал, что они есть. Ниточки были дорогами, по которым я мог бы пойти, но стоило мне выбрать одну из них, как немедленно с грохотом опустится решетка ворот, кто-то поднимет разводной мост, и запустится цепная реакция, остановить которую никто уже не сможет, но мне нельзя было также ни остановиться, ни вернуться назад по своим следам. И еще одно было очевидно: ударь я тогда стоявшего передо мной человека, я бы тем самым сделал другой выбор.
— Идиот проклятый, — сказал я, уже понимая, что решил оставить его в покое. Правый кулак разжался, и на лице передо мной ясно изобразилась гримаса разочарования. По каким-то неизвестным мне причинам он предпочел бы кричать «полиция, полиция!», но в этот самый миг раздался мамин возглас:
— Тронд! — донеслось откуда-то снизу улицы. — Тронд! Вот он, я его вижу! «Вермландсбанк»! — кричала она чуть громче, чем я мог бы поставить ей в заслугу. Хорошо хоть она не заметила того, как на моем конце улицы чуть было не пошла наперекосяк вся моя жизнь. Зато теперь я вышел из круга, светящиеся стрелки потухли, диаграммы и ниточки смялись, растаяли, потекли вдоль тротуара тоненьким серым ручейком и исчезли под решеткой ближайшего стока. На правой ладони у меня были красные метки от врезавшихся в кожу ногтей, но выбор я сделал. Если бы я ударил того мужика из Карлстада, жизнь моя стала бы иной, а сам я стал бы другим человеком. И глупо утверждать, хотя многие так делают, что все равно я пришел бы к тому же самому. Вовсе нет. Просто я счастливчик. Я уже это говорил. Но это правда.
Я не хотел заходить в банк, поэтому остался стоять снаружи, упираясь одним плечом в серую каменную стену между окон и с отцовым шарфом на шее; с дующим в лицо октябрем, ясным ощущением Клараэльв и всего хлама, который река несет с собой, где-то недалеко за спиной, и дрожанием в животе, как после длинного забега, когда дыхание давно восстановилось, а само усилие еще живо во всем теле. Лампа, которую забыли потушить.
Мама пошла туда одна, сжимая в руках доверенность от отца; упрямая и настроенная все сделать, но скованная языковой стеснительностью. Она отсутствовала почти полчаса. На улице было дьявольски холодно, я не сомневался, что заболею. К тому моменту, когда мама наконец вернулась с растерянным, почти мечтательным выражением на лице, холод с реки покрыл все мое тело тонкой пленкой из неизвестного материала, отчего я стал на одну мысль отстраненней, на одну мысль толстокожей, чем раньше. Я выпрямил спину и спросил:
— Ничего не вышло? Они не поняли, что ты говоришь? Или не хотят отдавать денег? А может, вообще счета нет?
— Нет, нет, — сказала мама. — Все отлично. Счет есть, деньги дали. — Она засмеялась нервно и добавила: — Сто пятьдесят крон. Я не знаю, конечно. Но тебе не кажется, что это очень мало? Я не представляю себе, сколько зарабатывают на лесе. Ты не знаешь?
В свои пятнадцать лет я мало что знал об этом, но денег должно было быть в десять раз больше. Франц всегда говорил, что лес сплавляют не так, как хочется моему отцу, что он затеял отчаянный проект и что он, Франц, помогает ему единственно потому, что они друзья и он знает причину отцова отчаянья. И хотя мы с отцом успели разобрать один завал на реке прежде, чем нам стало пора возвращаться, это не спасло ситуацию. Река расставила свои тормоза со всей беспощадностью: уровень воды стремительно вернулся после ливней к нормальному для конца июля, и сплавляемый лес застрял, опрокинулся и взгромоздился огромными кучами, которые потом можно было только взорвать динамитом, бревна то и дело утыкались в каменистый берег или трагично опускались в низкой воде на дно и оставались там неподвижно лежать, так что лишь каждое десятое бревно добралось до лесопилки. И стоимость леса не превысила ста пятидесяти шведских крон.
— Не знаю, — ответил я, — не знаю, сколько зарабатывают на лесе. Не имею представления.
Мы стояли перед «Вермландсбанком» и смотрели друг на друга, я наверняка был груб и угрюм, как часто с ней, а она растерянна, и неуверенна, но не ожесточенна сегодня. Она прикусила губу, улыбнулась и внезапно сказала:
— Зато мы с тобой попутешествовали вдвоем, только ты и я. Это ведь тоже не каждый день бывает.
— Да, но знаешь, что самое смешное?
— А есть смешное? — спросил я.
— Мы должны истратить деньги здесь. Мы не можем просто захватить их в Норвегию. — Она расхохоталась. — Там какие-то строгости с валютным регулированием. Я, конечно, должна была о них знать, но упустила из виду. Впредь придется к таким вещам внимательнее относиться.
Вот этому она никогда не научилась, будучи мечтательницей по природе и слишком погруженной в себя почти все время. Но в этот день она внезапно собралась. Снова засмеялась, взяла меня за плечо и сказала:
— Пойдем-ка обратно, я тебе что-то покажу.
Мы вдвоем пошли по улице в сторону вокзала. Я больше не мерз. Ноги одеревенели от долгого стояния, и все тело затекло, но от ходьбы все пришло в норму.
Мы остановились перед магазином одежды.
— Это здесь, — сказала мама и впихнула меня внутрь первым.
Из комнатки позади прилавка вышел продавец, поклонился и поинтересовался, чем он может быть полезен. Мама улыбнулась и произнесла очень четко:
— Нам нужен костюм для этого молодого человека.
Конечно же, костюм по-шведски называется не костюм, а каким-то совершенно другим словом, догадаться о котором мы никак не могли, но мама на этот раз не смутилась, а просто повернулась и пошла в угол к вешалке с костюмами, вдруг элегантно цокая каблуками, сняла один, покрутила его на плечиках, повесила через левую руку чтобы посмотреть на него, потом кивнула в мою сторону и сказала, улыбаясь долгой улыбкой:
— Вот такой костюм — вот для него.
Мама улыбнулась и повесила костюм на место, а мужчина тоже улыбнулся, кивнул и стал измерять меня: обхват талии и длину ноги по внутренней стороне бедра, а потом спросил, какого размера у меня рубашки. Я об этом никогда не думал, но мама знала. Продавец снял с вешалки темно-синий костюм моего, как он посчитал, размера и показал на примерочную в глубине зала, все это не переставая улыбаться. Я зашел в примерочную, повесил костюм на крючок и стал раздеваться. Там были большое зеркало и табурет. В магазине такая жара, что кожу на пузе и руках пощипывало. Меня вдруг разморило, я плюхнулся на табурет, положил руки на колени, а голову опустил на руки. На мне были только трусы и голубая рубашка, и я уснул бы так, если бы мама не крикнула: