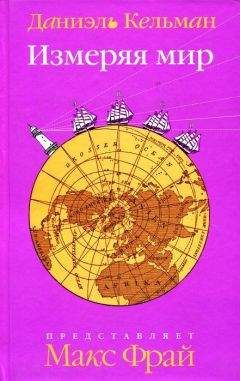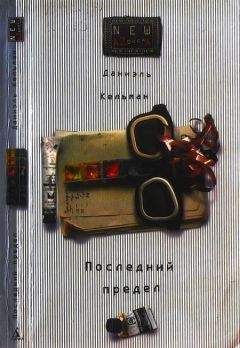Им повезло с погодой, сказал Гумбольдт. Последний месяц все лили дожди. А сейчас можно вроде надеяться на прекрасную осень.
Ну, это еще, собственно, можно пережить. Его брат, тот, по крайней мере, военный. Хотя, конечно, ничему там не научился и ничего не умеет. Но стихи!
Я изучаю право, тихо сказал Ойген. И, кроме того, математику!
Но как? сказал Гаусс. Что это за математик, который понимает, что перед ним дифференциальное уравнение, только тогда, когда оно ставит его в тупик. То, что полученное образование еще ничего не значит, знает каждый. Десятилетиями я видел перед собой тупые лица молодых людей. Но от своего собственного сына я ждал чего-то большего. И почему вообще именно математика?
Я этого не хотел, сказал Ойген. Меня заставили!
Ах, и кто же?
Смена погоды и времен года, сказал Гумбольдт, и составляет истинную красоту этих широт.
Многообразию тропической флоры в Европе противостоит ежегодное красочное зрелище вновь пробуждающейся природы.
Как это — кто? закричал Ойген. А кому понадобился помощник для геодезической съемки?
Да уж, помощник хоть куда! Милю за милей приходилось измерять дважды из-за бесконечных ошибок!
Ошибки! И это в пятом периоде после запятой! Да они уже никакой роли не играют, это все уже совершенно безразлично!
Минуточку, сказал Гумбольдт. Ошибки в измерении никогда не бывают безразличными.
А разбитый гелиотроп? накинулся на сына Гаусс. Это тебе тоже безразлично?
Измерение — высокое искусство, сказал Гумбольдт. Оно налагает ответственность, к которой нельзя относиться легкомысленно.
Собственно, даже два гелиотропа, опять сказал Гаусс. Другой я просто уронил, а все потому, что какой-то болван вел меня по лесу не той дорогой.
Ойген вскочил, схватил свою суковатую палку и красную шапку и выбежал. Он хлопнул дверью так, что замок защелкнулся.
Вот и весь разговор, сказал Гаусс. Благодарность нынче не в ходу, да и само слово теперь не в моде.
Конечно, с молодыми людьми не просто, сказал Гумбольдт. Но и нельзя быть слишком строгим, иногда немного ободрения приносит больше пользы, чем укор.
Из ничего — ничего и не получится. А что касается магнетизма, то вопрос тут поставлен неправильно: речь идет не о том, сколько магнитов находится внутри Земли. Так или иначе, все равно в итоге окажется только два полюса и одно магнитное поле, которое можно будет описать, определив силу земного магнетизма и угол наклонения магнитной стрелки.
Он всегда использовал магнитную стрелку, сказал Гумбольдт. С ее помощью он собрал более десяти тысяч достоверных результатов.
Боже праведный, сказал Гаусс. Зачем же так напрягаться? Думать надо! Горизонтальная составляющая силы земного магнетизма несет в себе функцию географической широты и долготы. Вертикальную составляющую лучше всего разложить по степенному ряду обратной величины радиуса Земли. Простые шаровые функции. Он тихо засмеялся.
Шаровые функции. Гумбольдт улыбнулся. Он не понял ни слова.
Он уже утратил сноровку, сказал Гаусс. В двадцать лет ему и дня было бы много для таких несложных вещей, а сегодня ему понадобится для этого не меньше недели. Он постучал себя пальцем по лбу. Серое вещество здесь уже не работает так, как раньше. Он жалеет, что не выпил тогда кураре. Человеческий мозг угасает понемножку каждый день.
Кураре можно выпить, сколько душе угодно, сказал Гумбольдт, и ничего не произойдет. Чтобы умереть, его нужно ввести в кровь.
Гаусс удивленно уставился на него.
Точно?
Конечно, точно, уверенно, но и возмущенно сказал Гумбольдт. Практически я сам открыл эту субстанцию.
Гаусс какое-то мгновение помолчал.
А что, спросил он потом, случилось на самом деле с этим Бонпланом?
Время поджимало! Гумбольдт встал. Собравшихся нельзя было заставлять ждать. После его приветственной речи будет дан небольшой прием в честь почетного гостя.
Домашний арест!
Как, простите?
Гумбольдт пояснил, что Бонплан находится в Парагвае под домашним арестом. После возвращения в Париж он как-то оказался не у дел. Слава, алкоголь, женщины. Его жизнь утратила ясность и целенаправленность, это как раз то единственное, чего никогда ни с кем не должно случаться. Какое-то время он был главным архитектором императорских декоративных садов и разводил чудесные орхидеи. После падения Наполеона он снова отправился за океан. У него там осталась семья и земельные угодья, но в одну из гражданских войн он примкнул не к тем людям, к каким нужно было, а может, как раз к тем, к кому нужно, но, во всяком случае, они потерпели поражение. Сумасшедший верховный диктатор по имени Франсия, к тому же еще и доктор, запер его в своей резиденции и держит там под постоянной угрозой смерти. Даже Симону Боливару не удалось ничего сделать для Бонплана.
Ужасно, сказал Гаусс. А кто такой этот Бонплан? Он, собственно, никогда ничего о нем не слышал.
Ойген Гаусс бродил по Берлину. Нищий протянул к нему ладонь; бездомная собака рядом заскулила, поднялась на лапы, достав ему до колен; лошадь, запряженная в дрожки, фыркнула ему в лицо; полицейский прикрикнул на него, чтобы он не болтался без дела по городу. Стоя на углу, юноша разговорился с молоденьким священнослужителем, тот был из провинции, как и он, и тоже робел.
Математика, сказал священнослужитель, интересно!
Ах, махнул рукой Ойген.
Его зовут Юлиан, сказал священнослужитель.
Они пожелали друг другу счастья и попрощались.
Ойген сделал всего лишь несколько шагов, и с ним заговорила женщина. Ноги у него подкосились от ужаса, ему уже доводилось слышать о таких вещах. Он ускорил шаг, ни разу не обернулся, почувствовав, что она бежит за ним, и так никогда и не узнал, что она всего лишь хотела ему сказать, что он обронил свою шапочку. В харчевне Ойген выпил два бокала пива. Скрестив руки, он сидел, уставившись в мокрую крышку стола. Еще никогда он не был в такой печали. И вовсе не из-за отца, тот всегда был таким, и не из-за своего одиночества. Все дело было в городе. В толпах людей, в высоких домах, в грязном небе. Он сочинил несколько стихотворных строк, но они ему не понравились. Он тупо смотрел перед собой, пока двое студентов в обвисших штанах и с длинными по моде волосами не сели за его стол.
Гёттинген? спросил один студент. Известное местечко. Там такие дела творятся!
Ойген заговорщически кивнул, хотя понятия не имел, о чем речь.
Но она придет, сказал другой студент, свобода придет, несмотря ни на что.
Наверняка придет, подтвердил Ойген.
Безотлагательно и неизбежно, как ночной вор, сказал первый.
Теперь они знали, что у них есть что-то общее.
Через час они двинулись в путь. Как это делали все студенты, Ойген шел, взяв под руку одного из новых товарищей, а другой следовал за ними шагах в тридцати, чтобы никакому жандарму не пришло в голову задержать их. Ойген не понимал, как это можно так долго идти: всё новые улицы, новые перекрестки, да и количество людей, снующих вокруг них, тоже не уменьшается. Куда они все шли и как можно так жить?
Новый университет Гумбольдта, рассказывал студент, который шел с Ойгеном, самый лучший в мире, все организовано по высшему разряду, с самими знаменитыми профессорами страны. Государство боится его как огня.
Гумбольдт основал университет?
Старший Гумбольдт, пояснил студент. Тот, что порядочный. Не этот лизоблюд Фридриха, который проторчал всю войну в Париже. Старший брат публично призывал младшего к оружию, но тот сделал вид, что ему сейчас не до Отечества. А во время оккупации Берлина Наполеоном он велел повесить на дверях своего берлинского замка табличку, что грабителей просят не беспокоиться: владелец имущества — член Парижской академии. Отвратительно!
Улица круто пошла вверх, потом резко под уклон. Перед входом в дом стояло двое молодых людей, они спросили пароль.
Борьба и свобода!
Это был предыдущий пароль.
Подошел второй студент. Они оба пошептались.
Германия?
Давным-давно уже нет.
Немцы и свобода?
Тоже нет! Стоявшие на страже обменялись взглядами. И пропустили их. Они вошли.