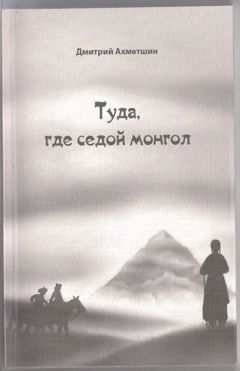Смотрю на чудо, на воскресение мира, воскресение памяти.
Если бы рядом не шелестел видеофон. Если бы сквозняк мирозданья вливался к нам извне, через антенну, с неба над лесом...
О чем она думает, бедная моя?
До сих пор не знает, что птицы летели с юга на север. Птицы летели с юга на север... До сих пор не знает...
* * *
Мы смотрели документальные фильмы.
Как нарочно для нас двоих прислали сюда магическую, запись «планета людей...». Оставили нам, показать и напомнить весь, неделимый от края до края белый свет.
Мелькающие виденья сливались в ритме одной могучей мелодии, звали, притягивали к себе...
Люди пашут и сеют почти наяву. Летят и едут, лечат и строят, гуляют и состязаются, мечтают и вспоминают, и ничего не могут забыть.
Послушай, о чем говорит невидимый диктор на улицах большого столичного города, сменяя сверхъестественной властью нарядные улицы на битый камень и разрушенные дома, светлое небо на черный дым, ясный покой на лицах на смертный ужас. Новый город на прежний...
Чтобы им овладеть, вокруг него через каждые два метра стояли убойные пушки. Поля и дороги вокруг были накрыты железной броней танков. Чтобы к нему дойти, чтобы сокрушить или отстоять безмерное зло, рожденное в этом городе, каждую минуту погибали восемнадцать человек. Два миллиона сто пятьдесят семь тысяч минут земной человеческой жизни ушли на то, чтобы каждое мгновенье гибли восемнадцать человек...
От боли земля повернулась в другую сторону, подняла к небу каменные руки памятников, чтобы никогда это не повторилось. Матери ходят поклониться могилам, плачут всю жизнь, лишь бы это не повторилось... Невыносимое напряжение убитых и неубитых, нечеловеческий героизм – только бы э т о не повторилось...
Неужели все перечеркнуто, и сам Героизм никому не нужен теперь? Ни прошлый, ни будущий. Ни муки, ни подвиги, ни слезы? Потому что их, как насекомых дустом, легко смести одним ударом, обыкновенно, буднично... Со всем прошлым и будущим... обыкновенно...
Может быть, поэтому кричат с экрана, кричат и падают солдаты, которых больше нет?...
Куда же мы катимся? Вуда мы катились? Или уже докатились?...
Наш мир, весь мир в кассетах, в роликах, в дисках, пленках... Все живое в одних копиях. В одних отзвуках и воспоминаниях... Ито, если будет хоть кому вспоминать...
А на экране уже другие, новые дни, другие земли. Уютные города, колокольни, дома, виноградники, ухоженные дороги, мосты, автомобили, озабоченные, занятые люди.
– Неужели... – очнулся я от этого «неужели», она сказала, не отрываясь от экрана, – мы туда не попадем?
– Обязательно попадем, – поспешил успокоить я.
– Смешной... Разве так было? Хочу и готово, заказывай билет... Все это страшно далеко.
– Ты пройдешь по тем улицам, я добьюсь. По тем дорогам, – решительно заявил я, точно мне оставалось только поднести к уху телефонную трубку и сказать влиятельному знакомцу: «Слушай, обеспечь этой женщине визу на понедельник... Она такого хлебнула... При том она моя... да, да... жена...».
– Тебе часто приходилось бывать? – взглянула на меня благодарными глазами жена.
– Приходилось...
– Видишь, могли ходить, смотреть... А что я видела, что помню? Одни магазины... Выставки, галереи – все мелькнуло, не осталось...
– Иногда бывает не очень радостно видеть, – как можно будничней сказал я, на миг уловив затаенную грусть в этих ее словах. – Когда поехал первый раз, пошел в самую знаменитую галерею... Художники старинные, полотна великие... Ушел как избитый...
– Почему? – искренне удивилась она и повернулась ко мне, положив обе руки на левый подлокотник.
– Рассказывать никому не мог. Боялся, не поймут.
– А я?
– Тебе скажу... Не видел раньше так много картин с библейскими сюжетами...
Она улыбнулась:
– Не понравились мадонны?
– Там на каждую мадонну десяток сюжетов на избиение младенцев.
Очень дотошно и подробно... Железными цепями, дубинами, ножами, огнем, водой... Мастера великие... Реальностью по голове... Мне объясняли: это не от жестокости, не думай... В святых книгах тысячелетних много таких сюжетов... Ничего себе, святость... Потом ходил по городу, и все вокруг эту струну задевало. Читаю в газетах: парламент всерьез утверждает закон о порке детей... Ученый коллоквиум пугает перенаселением земли: ограничьте рождаемость, как можно меньше детей, они выживают нас... Прочел и удивлялся уже только тому, что правит ими всеми женщина...
– Я в тех местах не бывала. К наши м ездила...
– Вот, у наших однажды я был и вправду счастливым...
Это я не мог не рассказать... Огонек, согревающий память...
Маленькая страна... Воздух пьется, как виноградный сок. Я нигде не видел такой привилегии детства, как у них... Добрый культ маленькой личности... Куда ни ступи, всюду напоминания, хлопоты о них... Каждый взрослый мгновенно встает на стрёме, когда любой малыш попадает на улицу... Доверие к детям безграничное, уважение безграничное. Без малейшего заигрывания. Хотя по улицам бегает особый детский трамвай. Только детям разрешен вход... Едут в сказке. Артисты бесплатно с ними занимаются... Летает по городу яркий трамвайчик и звенит от смеха и радости... Вся улица вокруг улыбается...
Однажды пришел в один большой детский зал... Ребятам говорят: а не споем ли мы в честь нашего гостя?... Запели... Ни в одной мордашке не было той спокойной репетированности, какую часто видишь... Вам надо? Сделаем, что хотите. Вам, взрослым, надо?... Скажем и повторим, что хотите. А вообще-то нам до лампочки...
Там я ходил и буквально с головой купался в детскости, в свежести... Видел и детские сады с бассейнами, школы с автодромами... Но одним количеством школ и дворцов такое не вырастишь...
Я рассказывал, думая развлечь ее. Она грустнела от моих воспоминаний больше и больше, сникала в кресле непонятно, почему.
– И я ходила бы теперь и глядела во все глаза: как люди живут, чем дышат, как детей растят, какие новости у них, какие заботы...
– Прости, я тебя огорчил? – виновато спросил я.
– Что ты, – смутилась она. – Ты перенес меня туда, – кивнула в сторону окна, где, наверное, виделись ей желанные дали. – Мне бы те огорчения...
Провела пальцем по закрытым глазам. Кассета кончилась. Я встал, чтобы найти какое-нибудь кино и выключить на время экран.
* * *
Выключил телевизор... Просто и легко. Это раньше было так легко...
Мне трудно гасить, выключать, останавливать виденья в глубине, плывущей в самую дальнюю даль...
* * *
Моя горожанка мама удивляла меня когда-то своим отношением к погоде...
Льет проливной многодневный дождь. Всё кругом полировано водой. Крыши, стены, асфальт. Она говорит:
– Смотри, как дерево сохнет от воды. Листья опали, голое стоит, а осень еще далеко... Захлебнулось водой, нечем ему дышать.
– Ну и что? – равнодушен я. – Свежести много. Ведь не погибло.
– Как знать, – непонятно для меня сокрушается мама. – В деревне падает, гибнет всё. Поле чавкает хлебом. И сена тоже не будет...
Но вот окунается город в невыносимое пекло. Дворники поливают улицы утром и вечером. Губы холодит мороженое... До сих пор чувствую, как наша улица пахнет мороженым в тележках и солнцем в политой зелени.
Мама снова будто жалуется:
– Погодка не ко времени. Ей бы с месяц подождать. Все горит. А на жатву польет...
А в городе не горит. Горит, затаенная где-то неведомая земля, горит в мамином сердце невидимая никому деревня.
– Ты лепешек из лебеды не ел, – оправдывалась мама, робко защищаясь от моих иронических улыбок, – не дергал после голодухи самую первую молодую картошку. Не ел ее с одним тоненьким свежим укропом.
– Но это же невкусно!
– Что ты, родной мой. Такое блаженство. Тает в душе, как бальзам. Слаще тех ананасов и мороженого...
Снег, который долго не желал укрывать землю, мороз, дробивший кору на деревьях – все ранило и саднило живое что-то в моей горожанке.
Природа не хотела быть автоматом, звала к себе, – ждала участия людской заботы.
Помню еще, как мама спасала пчелу, залетевшую в комнату через форточку. Я лупил тех пчел газетами. Но если дома в эту минуту была мама, она пресекала разбой. Брала стакан и лист бумаги, накрывала стаканом пчелу, которая тыкалась, как слепая в прозрачную твердь окна, осторожно протягивала бумажный листок между стеклом и стаканом и выдворяла пленницу через форточку на волю.
– Пчела к меду, мед к сенокосу, к травам, трава к урожаю, – сказала мне однажды мама.
Только теперь я понимаю, почему, когда обычно такая неряшливая, такая взбалмошная природа весь год однажды укрощала свои причуды, отмеряла хлебам и яблоням солнце и воду, как автоматы у нас в оранжерее, когда все говорили вокруг о великом урожае, мама в тот год сказала своей подружке:
– Так всё ладится, так всё ладится... Не к войне ли, Марфуша?...
Разве мог я тогда подумать, что все это всплывет в моей памяти лишь только здесь, в нашем одиночестве, и ляжет на бумагу запоздалым укором.