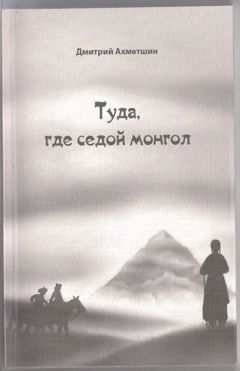– Так всё ладится, так всё ладится... Не к войне ли, Марфуша?...
Разве мог я тогда подумать, что все это всплывет в моей памяти лишь только здесь, в нашем одиночестве, и ляжет на бумагу запоздалым укором.
Но почему все-таки укором?... Жаль мне тех вымокших полей?... Не знаю. Раньше не думал о них. Тогда чего тебе жаль?...
Я смотрю на экран, у которого садились каждый вечер сто, наверное, миллионов людей. Он звал их на общий неравнодушный совет, на участие, на отклик, на боль. В огромное, не заменимое ничем, единение... Смотрю, и невыразимо хочу себя убедить, что я не один. Что есть еще единство мое со всеми. Что никогда не вернется ко мне равнодушие. Что поля и луга, плывущие тут на экране – это не мертвая копия прошлых забот, прошлого людского единения...
Хочу вырваться из глухоты. К ним, ко всем. Быть с ними... Так не хватает всего. Мне так нужны все, мне так необходимо всё. Я больше не мог бы стать прежним...
* * *
Раскидал снег у скамейки, врытой в землю около нашего летнего кафе. Там поставлены грубые дощатые столы почти на краю леса. На столах невиданные шапки снега, удивительные тем, что, появились, минуя осень, которую мы не заметили. Синицы, ошарашенные снегопадом или тем, что закрылась их летняя столовая, разметали по этим шапкам узоры следов.
Я принес кормушку, сделанную из коробки. Она принесла коржики. Мы сидим на первой скамейке, ближе к деревьям, уходить не хочется, так завораживает белое мягкое забвенье всюду и на всем. Птахи не понимают нас, и кидаться на угощенье совсем не спешат. Она стала разбрасывать крошки по снегу. В дереве над нами поднялся переполох, а потом синицы осмелели окончательно. Их было так много, что от резкого движения руки они взмывали разбойной тучкой на дерево, слетали снова, яркие в снежной пыли, в искрах снега.
Деревья облеплены снегом. От подножья до вершины ствола с одной стороны побелены снегом, и деревья похожи, поэтому, на березы. В одну снеговую ночь появилось чудо – березовый лес. Виденье, сказка, мираж.
Я смотрю, как отразилась на ее лице березовая сказка, волнуюсь от молчаливой нежности, а на память приходят наивные добрые слова из книжной сказки, где глаза у девушки «ночные озера с темными елями по сторонам...».
Или я поглупел, или вершится все же круговорот времени, вернувший меня сказке, нежности, вечно беспокойному, как сама радость, покою...
Вдруг по снежному виденью запрыгало что-то, маленький вихрь снега проскакал за деревьями. Заяц! Настоящий заяц! Вихрик вернулся, на мгновенье замер, подняв уши, поглядел, понюхал и сиганул, будто его и не было, и нет.
Она засмеялась:
– Я думала кошка, домашний кот...
Продукты бегают, некстати подумал я.
Тут на поляну, виденья-березы, на скамейки, столы, на синиц, на крыши мягко повалил новый снег, желая, наверное, скрыть от меня пеленой всю эту сказку.
* * *
Грустно сделать открытие вроде этого. Понимаю вдруг, чего нет в поселке. Все-таки чего-то нет! Совсем нет обыкновенно детского. Ни игрушек, ни пустышек, ни погремушек, ни кроваток, ни велосипедов, ни ботиночек... Нет будущего. Как же так?...
Утром я слепил снеговичка и приладил его к стеклу кухни, снаружи. Она увидела его и просияла. Это для них двоих. Первая наша игрушка.
Если бы не давнее суеверное житейское беспокойство, я начал мастерить игрушки уже теперь. Машины из досочек на деревянных колесах...
Я строгал бы доски до нежного блеска, до полировки. Я развел бы самые светлые краски для этих автомобильчиков и красил их до бархатной глади...
Я смастерил бы смешных человечков из лесных шишек. Я...
Ну, соску можно сделать из аптечных резиновых напальчников. И кроватку выстругаю сам. Одну садовую тележку разберу на части. У нее резиновые колеса, но все другое не годится для детской коляски, для женских рук...
Я построю качели, необыкновенные горки – качалки, теремки возле нашего дома...
Но если бы я когда-нибудь мог взять в лапу крохотную ручонку и войти в настоящий детский магазин вместе с моим теперь уже старшим...
* * *
Она изменилась. Как она изменилась!
Вечером дома смотрю на нее оглушенный, понимаю, что с ней, а ночью не могу передать бумаге озарение женственности, не могу передать нежный свет лица, потаенную глубину ее голоса, бережную плавность ее движений.
Она впервые вяжет, вяжет платок, а мне чудится, так же будет она вязать маленькое, совсем крохотное, пушистое... Голос ее, лицо, руки... Я подошел, опустился перед ней на колени, отстранил вязанье, припал к ее рукам.
– Ты отнял у меня одиночество... ты прогнал одиночество, – тихо, почти шепотом отозвалась она. – Ты единственный мой... ты... но я боюсь... так боюсь... Если мы никогда не выйдем из леса?
– Уйдем! Обязательно уйдем, – клятвенно говорю я. – Уйдем... втроем... Он будет умным, смелым, добрым, как ты, красивым, как ты...
– Почему же он, а не она?
– И она красивая, как ты...
Вижу слезы на ее глазах. Неодолимо хочется взять, на руки, утешать, успокаивать.
* * *
Что же делать, я тоже боюсь. Не только самого главного. Боюсь, когда начнутся, наступят женские тягости, приступы, тошноты, многие длинные, может быть нелегкие ночи. Я не доктор. Но я не скажу тебе, как я боюсь. Никогда не скажу...
* * *
Белый свет.
Где-нибудь в Африке свет называют зеленым, оранжевым или желтым. Говорят: хорошо на зеленом свете... Ах, не мил мне стал оранжевый свет... У нас белый свет пошел от снега. Падает, и падает снег, и нет ему предела, нет исхода белому цвету.
Я на лыжах мигом домчался до котельной, посмотреть, наконец, наши книги... Долго разгребал сугроб у входа, вошел в тамбур уже весь в пороше, смахивал снег веником, особенно чувствуя в тепле свежесть внесенного холода.
В зале тихо. Вода шелестит по трубам уютным домашним теплом. Они так и лежат, семнадцать пачек, стянутые шнурками: лишь одна развязана. Подвинул к ней стул и начал перелистывать. Сверху лежала, к удивлению моему, книга стихотворений... Кому это понадобилось на вертолете забрасывать в такую даль стихи?... Открыл ее машинально, посмеиваясь в душе, представив себе кто будет ее читать. Но сегодня, кажется, день маленьких открытий. Не могу себе отказать привести полностью то, что я увидел на случайно развернутой странице.
Необходимо было в грудь мою
Сердце другое вложить —
Иначе бы умер я.
Приживили мне сердце матери,
Но оно все равно болит.
Особенно, когда земля горит от безводья.
Особенно, когда отец не приходит с войны.
Особенно, когда в люди я ухожу
И домой не пишу месяцами.
Особенно, когда в сумерках солнце скрывается за холмами.
Ах, как щемит, как болит оно снова.
Никогда я не знал такой боли.
Но не знал и терпенья такого...
Почудилось мне, кто-то подошел и встал рядом. Я нисколько не преувеличиваю. Понимаю: никто не мог подойти, понимаю, как условно само понятие книга, как мертва она без моего взгляда, как неподвижна и бесполезна, все понимаю. Но в этот миг я стал вдруг не одинок. Вот, пожалуй, главное, что ощутил я.
Замер в растерянности над печатными буквами, как над письмом издалека, с горячими живыми словами, долетевшими сюда с бельм холодком страницы... Я человек, пока меня волнует слово, я живу, пока входит в меня звук чужой боли, невидимой, неощутимой руками – одним глубоким дыханьем...
Долго я перелистывал книгу, не узнавая себя. Всегда был небрежен к стихам и невнимателен. Снег на меня так действует или заточенье в разлуке со всем, чему нет замены?... Чему не будет замены.
Милый мой, кто же это навестил меня в такой дали, в кромешном снеге?...
Я положил книгу в карман, чтобы не оставлять ее среди не распакованной мебели, в духоте котлов и труб. Взял следующую книгу. Не удивился уже тому, что и она была стихами.
Любили тебя без особых причин
За то, что ты – внук,
За то, что ты – сын.
За то, что – малыш,
За то, что растешь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей...
Опять сердца коснулось чужое тепло. Но это м о е тепло! И я взял его, чтобы принести ей. Не оставлять в душной котельной освежающее тепло.
Затем были книги о самом разном.
«Цветная Фотография», с описанием истории, с удивительным портретом Бальзака, сделанным в тридцатые годы прошлого столетия. Выходит, Пушкин мог быть сфотографирован? Я не знал...
«Автоматика холодильных и нагревательных систем».
«Гидролизная переработка хвойной древесины. Получение каротина, пищевого белка и моторного топлива».
«Геотермальная энергетика».
«Лекарственные травы. Сбор. Приготовление. Лечебная практика».
«Все про медоносных пчел».
«Ритмы жизни: человек, общество, поколения».
«Машинное и ручное вязанье...».
Перекладываю книги, словно ближе знакомлюсь я с теми, кто оставил их нам, с людьми, не похожими друг на друга, разными, как эти книги, которые больше не будут пылиться и чахнуть без прикосновения рук. Они переедут в большой крепкий жилом дом...