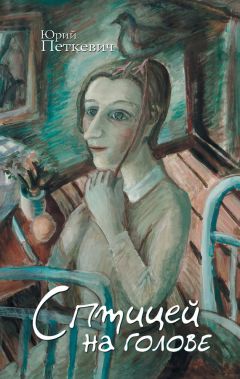— У меня родился братец!
Старик устал, на нем все дрожало; он ни о чем сейчас не думал — только о том, как дойти до дома, и еще — какой тяжелый мешок с еловыми лапками. Старик повернулся к девочке, но забыл улыбнуться. Геня наблюдал из окна и скорбел, глядя на все часы в доме. Пока старик прошморгал мимо окна по улице — еще минуло полчаса. А мама Раи, собираясь в город, наряжалась за перегородкой у зеркала. Она вспомнила молодость, и перемеряла все свои наряды, и заплакала. Вытерев слезы, старуха опять натянула на себя платье, которое каждый день носила, и завязала самый скромный платок с увядающими цветами. Старуха еще раз посмотрела на себя в зеркало и скорее отвернулась, но, когда выбралась из-за перегородки, Геня удивился ее помолодевшему лицу.
Она слишком долго возилась, и, когда прибежали на станцию, поезд уже ушел, и поехали на автобусе. Бабушка села у окна и взяла на колени Олечку. Гене не досталось места, и он стоял; народу ехало много — и все одни старики и старухи. Проезжая через деревню и оглянувшись на последний дом, совсем уж развалившийся, но с железной решеткой на окнах, бабушка стала вспоминать про веселую жизнь раньше.
— А почему она была веселая? — спросила Олечка.
— Много было детей, — начала объяснять старуха, — это редко у кого в семье — пять-шесть, все больше — по десять-двенадцать; если из каждого дома выйдут дети погулять, а часто бывало, что в одном доме жило несколько семей, то — посчитай, сколько детей будет на улице, — поэтому и жизнь была веселая. — И бабушка вздохнула: — А тебе даже летом не с кем было поиграть.
Олечка загрустила о прошедшем лете и уставилась в окно. Небо заволокло тучами, и заморосил дождь. В городе, когда приехали, выглянуло из-за туч жалкое вечернее солнце и заблестели на асфальте лужи. На остановках начали выходить из автобуса, и Геня сел на освободившееся место, не решаясь посмотреть на красивую девушку рядом.
— Кто выходит у военкомата? — спросила кондукторша, но в автобусе молчали, и она повторила: — Кто выходит у военкомата?
— Не хочет никто выходить у военкомата, — ответила ей девушка, вынимая из сумочки зеркальце и любуясь собой.
Автобус проехал мимо, но тут кто-то проснулся и закричал шоферу, чтобы остановился.
— Два раза спросила, — проворчала кондукторша. — Сколько можно повторять?
— Смотри! — невольно изумляясь, показал Геня девушке на просиявшую радугу в окне. — Кому, — добавил он, загрустив, — нам ли эта радуга?
— Нам, нам! — обрадовалась девушка, пряча зеркальце.
На следующей остановке ей выходить; когда сидела — не так было заметно, а когда поднялась — у нее оказался такой же маленький росточек, как и у Гени. Только сейчас Геня осмелился посмотреть ей в лицо и удивился голубым глазам, но, когда она вышла, уже забыл о ней и, чтобы лучше разглядеть радугу, протер запотевшее окно. И увидел, что девушка машет ему с тротуара. Геня догадался: когда он вытирал окно ладонью туда-сюда по стеклу — девушка подумала, что это он ей машет. И Геня по-настоящему ей помахал, и она ему еще помахала.
Когда улыбающуюся Олечку подвели к Алешиной кроватке — девочка вздрогнула, глядя на братца. И бабушка, и мама ожидали, что Олечка, столь долго мечтавшая о братике, горько расплачется, но девочка содрогнулась, жалея его, и, если бы Алеша был здоров, так не полюбила бы, как она полюбила. Рая стала кормить Алешу молоком из бутылочки с соской, и у нее задрожала рука. Геня не мог видеть, как у нее дрожит рука, — заторопился уйти, а старуха поняла, что обманулась, решив, будто это он виновен в рождении ребенка, — мало ли что он с Раей, когда учился в школе, сидел за одной партой. Глядя, как у Раи дрожит рука, старуха схватилась за сердце — и этим болящим сердцем она почувствовала, какая в душе у дочки любовь, и, заметив в ребенке черты бедного Костелева, осознала, что Алеша приходится Олечке самым настоящим братцем.
Когда он подрос и научился улыбаться, Олечка носила его на руках, а Алеша гладил ее своей ладошкой по щеке. Улыбался он не переставая и даже спал улыбаясь. Понятно, почему Алеша родился больной, когда его мать не хотела его, но откуда эта улыбка — нельзя было понять. Невольно Рая начала отвечать улыбкой на его улыбку, и ее лицо приобрело со временем такое же странное выражение, как и у Алеши, и теперь никто не сомневался, кто его настоящая мама. Как не ощущаешь бьющегося в груди сердца — точно так же Рая не чувствовала, что улыбается. Она укладывала мальчика в коляску и на прогулке улыбалась вместе с дочкой всем прохожим. Люди, которые на них смотрели со стороны, не могли их понять, отворачиваясь. У каждого может родиться больной ребенок — и это страшно, но ведь бывают среди них и такие, у которых в душе одна тихая радость, — и по улыбке Алеши можно представить, как улыбаются ангелы; это тоже страшно, и не зря случайные прохожие спешили, не глядя, мимо.
Алеша долго не мог научиться ходить, и, когда научился, Рая с Олечкой вывели его на прогулку, о чем девочка мечтала, в парк около вокзала, и встретили там Геню с такою же маленькой женщиной, как сам, даже еще меньше, и с одного взгляда было видно — они созданы друг для друга и счастливы, что нашлись. Увидев Раю с дочкой и уже бодро ковыляющего Алешу, Геня обрадовался, и Рая с Олечкой обрадовались, а маленькая женщина, не зная, чего они так радуются, тоже очень обрадовалась. Геня шагнул к Рае и поцеловал ее, а его маленькая женщина еще раз обрадовалась — потому что надо было видеть, как он ее поцеловал. Алеша, глядя, как Геня поцеловал его маму, показал ему, улыбаясь, на свою щечку — и меня поцелуй …
Геня и его поцеловал, улыбаясь.
— Помнишь, — спросил я у сестры, собирая чемодан, — как мы зимой шли по улице в Брошке, а ты набрала варежкой снег и ела его?
— Когда это было? — удивилась Юля.
— Когда я был маленький, а ты уже ходила в школу. Даже помню, — продолжал я, — на тебе было клетчатое пальто с деревянными пуговицами, и мы шли у кирпичного завода.
— Почему ты это вспомнил?
— Наверно, потому, — задумался я, — что ты была чем-то расстроена — тебе очень хотелось пить, и ты всю дорогу ела снег.
— Ты хочешь сказать, что я и сейчас расстроена, — догадалась сестра. И оттого что я проговорился о кирпичном заводе, за которым мы купили дом, и где сейчас одна мама, Юля еще сильнее опечалилась. — Проведу тебя, — сказала она, когда я собрался, и, обуваясь, спросила: — А ты помнишь мамины немецкие туфли из рыбьей кожи?
— Сейчас, когда в жизни только и осталось что вспоминать детство в Брошке, — сказал я Юле, выходя на улицу, — начинаю сознавать, как любил бабушку; без нее с каждым годом труднее жить, и уже не могу полюбить маму, как бабушку, — вздохнул я. — И опять мама будет плакать, когда приеду.
Я не могу понять, как мама вышла замуж за моего папу из Брошки. Мама закончила педучилище и носила туфли из рыбьей кожи, и как она могла в этих туфлях поехать за папой в деревню, не знаю. И не представляю, как она ужилась в одном доме с бабушкой и с дядей Сеней, который пил водку, но мама видела, что папа ее любит, и каждый день объясняла ему, почему из деревни уезжают. Однако потребовались годы, чтобы накопить денег, и, выплатив первый взнос за кооперативную квартиру, родители переехали в город.
Когда на меня в первом классе надели черные шелковые нарукавники и посадили за парту, я не выдержал и расплакался. Мама не могла понять моей тоски, а папа, если в молодости был веселый, то с годами загрустил и наконец заболел, но улыбка осталась у него на лице. Чем больше проходит времени после того, как он умер, все сильнее люблю его и жалею за эту не сходящую с лица улыбочку. Я догадываюсь, что папа, как и я, только об одном думал — как бы вернуться в Брошку, но скрывал от мамы и, может, поэтому заболел.
— Чего грустишь? — спросила на вокзале сестра, спускаясь со мной в подземном переходе к электричке. — Что еще вспомнил?
— Как улыбался папа, приехав в последний раз в Брошку, — ответил я. — Надеясь выздороветь, вышел он в резиновых галошах во двор подышать воздухом и радовался весне, когда начал таять снег. — И я оглянулся: — Смотри!
На ящике из-под водки сидел чудной какой-то толстяк и всем поднимающимся из подземного перехода желал счастья и любви — и мне с сестрой пожелал, и, когда он так пожелал, я вспомнил про Анечку, пробежал с чемоданом мимо, но тут же вернулся.
— Ах, — поглядев на часы, пожаловался толстяк, — еще два часа осталось здесь сидеть. — И, спохватившись, другим голосом, кому-то вслед: — И вам счастья и любви!
Сначала я подумал, что бедняга просит милостыню, но он не просил милостыни и не ожидал поезда, а специально пришел на вокзал, где всегда много народу, чтобы пожелать счастья и любви. И по тому, как он вздохнул, я догадался, что толстячок этот не сам пришел, а его кто-то послал, словно на работу, но все равно — несмотря на то что его кто-то послал, он желал счастья и любви от чистого сердца.