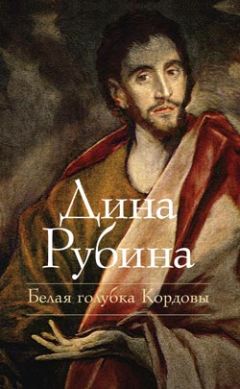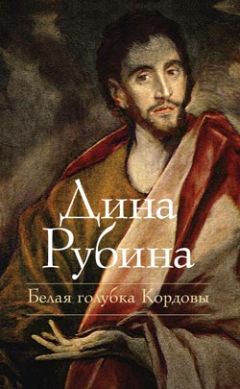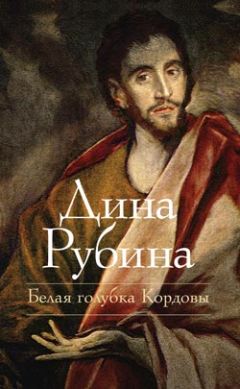Во всем остальном квартира была превосходной. Женщины законопатили окна и подоткнули все щели и зиму пересидели вполне уютно, наблюдая из окна черный, от гари близкой электростанции, снег; а уж когда он сошел, Нюся принялась кроить и сметывать распашонки.
* * *
Свой приплод Ритка недоносила, так как ей пришлось поучаствовать в драке соседей: благополучно завершив очередной честный срок, вор Володька вышел на очередную краткосрочную волю, и по сему случаю соседи собрали «поздравительную встречу» у дяди Шайки – своеобразный торжественный въезд в Иерусалимку.
Володьку на Иерусалимке уважали: худой, сухопарый, со сверкающими фиксами в чуть скособоченном рту, с тонкими блуждающими пальцами рук, был он гениальный карманник. Собрались все соседи: и дядя Миша, шофер хлебовозки, и спекулянт-тунеядец Вольфсон, и изысканный осел Исаак с орденом Героя Соцтруда на лацкане костюма; приехал из Тернополя старый друг Володьки, Ваня – «честно делать» какие-то новые дела. Выпили уже по третьей, беседа текла дружная и горластая…
Нюся с Риткой разносили пирожки с капустой (печь оказалась великолепной: ровножаркой, не дымной, приемистой. Нюся сама ее топила, благо уголь и дрова были заготовлены в сарае еще с прошлой Володькиной воли).
Так что Ритка разносила пирожки, тяжело протискиваясь брюхом между стеной и спинками стульев. Начала спора не слышала. Только вдруг наступила тишина, и в этой тишине ласковый Володькин голос проговорил в направлении дяди Шайки, восседавшего напротив него на крепком табурете:
– Я знаю пятьдесят смертельных приемов джиу-джитсу, – выговаривая это «джи» как-то зловеще мягко.
На что дядя Шайка спокойно заметил, демонстрируя растопыренную, как крыло могучей индейки, пятерню:
– А я тебя ото так возьму за орлышко, сожму ото так… из тебя вся твоя «джиу-джица» и вытечет.
Неторопливо поднялись оба, зачем-то разом сметая со стола тарелки…
Нюся завопила сиреной – от испуга за Риткин живот: тут бы в общей свальной драке ребенка-то ей и выдавили б, никакой акушерки не надо.
Но Ритка недаром была кандидатом в мастера спорта. И хотя брюхо фехтованию не помощник, она довольно ловко выбралась из драки, прокладывая себе дорогу подвернувшейся шваброй: выпад, малый батман, большой батман, захват, укол!
После чего уже дома согнулась дугой, обхватив обеими руками тяжелый камень внизу живота…
Когда Ритку привезли из роддома, дядя Сёма заставил себя нанести визит, вернее, помчался со всех ног: заковылял к Иерусалимке, энергично кренясь влево и выбрасывая вправо ногу в ортопедическом ботинке. Повод! Он ждал этого повода много месяцев, а теперь, когда Ритка с прицепом унижена и приструнена, и никому, кроме родного дядьки, болеющего за всех душою, не нужна, – вот теперь он может явиться, строгий и неумолимый, расставить все по местам, дать на несчастного мамзера[30] денег, и, главное, позволить им с Нюсей вернуться. Пусть уже вернутся, Господи, если ты есть!
Увидев покосившийся домик, какие обычно рисовали в детской книжке про рыбака и золотую рыбку – только разбитого корыта у порога не хватало, – дядя Сёма остановился и от оторопи не мог двинуться, не мог заставить себя подойти к двери, обитой пухлым рваным во многих местах дерматином.
Наконец, постучав, толкнул дверь и вошел – через кухню-прихожую – в комнату, неожиданно светлую, наполненную благостно евангельским, охристо-солнечным воздухом…
Ритка лежала на тахте, опершись на локоть, и внимательно рассматривала копошащегося у нее под боком новорожденного, который с невероятной для такой букашки энергией молотил ногами воздух, а кулачками работал, как заправский насос.
– Ребенка прикрой, застудишь! – надсадно крикнул с порога дядя Сёма, у которого сердце при виде нее ухнуло и застыло: такая она была красивая, Ритка, в этом голубом, в белый горох, халатике, такая сила в ней была сумасшедшая, такая воля, и плевательство на все!
Он хотел сказать, что приготовил – сдержанно-достойное, примирительное: мол, вот, родился все же человек, деваться-то некуда; и надо бы уже остепениться, подумать о будущем, вернуться из этой клоаки в нормальный дом, завершить учебу, найти работу. Ну, и тому подобное, поучительное…
Вместо этого проговорил с горечью:
– Ну, что? Доигралась? – как будто вся история стала ему известна вот только минуту назад.
– Ага! – сияя младенцу, отозвалась она, ловя крошечную пятку в свою ладонь и отпуская, ловя ее, и отпуская, без конца: – Посмотри, дядя: все у нас есть – руки, ноги, и пузень, и спинка, и складочки везде… и глазки серые… и для души все на месте…
Воздух этой халупы был уже пропитан ее запахом, к которому примешивалось что-то еще, ужасно волнующее: запах молочного младенца, нежно-голубиный неостывший аромат материнского лона. И застарелая бездетная тоска сжала горло так, что несколько мгновений Сёма слова не мог вымолвить.
Боялся он взглянуть на ребенка, подозревая, что сейчас по внешности все поймет, угадает отца, и не будет сил терпеть унижения, и побежит он, пожилой инвалид войны, точить на молодого негодяя кулаки или чего пострашнее…
Сделал несколько шагов к тахте, взглянул на дитя и обмер:
Перед ним лежал все тот же окаянный Захар, опять Захар и только Захар, словно этот мертвый паскудник – гопник этот! – как-то умудрился сделать ребенка собственной дочери! Ах, ты ж…! О-о-споди ж…!
Сёма опустился на краешек тахты, свесил безвольно кисти рук между колен. Смотрел на шустрого мальца искоса, боковым ревнивым зрением.
– Ну и… как назвала?
– Захаром, как еще, – легко ответила Ритка, продолжая веселую сосредоточенную охоту за брыкливой пяточкой.
– Так… – тяжело проговорил он. – А отчество, значит?
– Ну и отчество, чего там. Захар Миронович. Как есть, так и есть.
И будто подписывая сей вердикт, мальчишка пустил над собой колесом такую невероятную струю, что на мгновение показалось: она застыла в воздухе золотистой радугой или огромным нимбом, в котором сам он поместился весь, без остатка.
…Звонко-витражная радуга увязла одной клоунской штаниной в долине Кедрона, другую штанину перекинула далеко, в Заиорданье. И он, как в детстве, когда думал, что можно вбежать в цветной полосатый столб (и раскраситься: одна щека зеленая, другая малиновая, и руки раскинуть: ладонь желтая, ладонь фиолетовая), – ускорил шаги, оказался на улице Салахад-Дина, пробежав вдоль закрытых еще – раннее утро – арабских лавок, углубился под арочные своды рынка крестоносцев и понял, наконец, куда идет: в лавку Халиля. Он давно обещал Марго привезти какую-нибудь скатерку из дамасского шелка.
Миновав справа угол Пестеля и Моховой, он с усилием заставил себя повернуть налево, к улочке, ведущей к Храму Гроба Господня; вот еще поворот, и еще один – налево… Не дать снова затащить себя в сторону их с Андрюшей мастерской, то – другое, другое… Сейчас по курсу корабля – лавка Халиля.
Вот, наконец, и она: стеклянный пол, под которым видны остатки стен византийской церкви, широкий стеклянный прилавок в сумеречной глубине лавки. А где уважаемый Халиль, спрашивает он преподавателя – имя запамятовал – с кафедры монументальной живописи академии художеств, у него была еще такая странная плотоядная привычка облизывать губы… А вот и он, Халиль, кружит вниз по витой железной лесенке со второго этажа: – Адон Заккарийа, рад видеть тебя, надеюсь, ты не спешишь? – и через плечо велит тому, безымянному, вернее, потерявшему имя преподавателю с монументалки… нет, это уже тринадцатилетний внучок Халиля, впрочем, и этот без имени:
– Кофе, кофе… – тебе турки, Заккарийа, или шахбр?[31] – живо!
Мальчик исчезает и не появится уже никогда, как и кофе. Вместо него обнаруживается в глубине под лестницей еще один, прежде незамеченный прилавок, за которым на полках тусклым старым серебром мерцают…
– А что, Халиль, ты расширил бизнес? Мне казалось, ты гордился, что занят исключительно шелком.
– Э, какой там бизнес! Небольшая личная коллекция, хабиби… Ты погляди, что мне на днях достали: старинная благородная вещь. – И через плечо кивает, и подмигивает, приглашая взглянуть… Взгляд скользит за рукой Халиля на одну из полок, где… ах, плечом закрывает, плечом…
– Отойди! – кричит Заккарийа, – отойди! – и с силой отстранив Халиля, – да никакой это, к чертям, не Халиль, а скупщик, гад, Юрий Маркович, сволочь, прочь!!! – тянет руку за своим наследным кубком, за уделом своим: прочесть скорее, прочесть, что же там, на подставке-юбочке выбито?.. А вот оно, вот… – дрожат влажные от волнения руки: «Последний срок сдачи реферата – в начале марта, коллеги!» И словно издеваясь, пляшет гравированный галеон-трехмачтовик на крутой волне, и кубок выпадает из руки – стук! – и прыгает вниз, пересчитывая каждую из стеклянных полок – звяк! звяк! звяк!