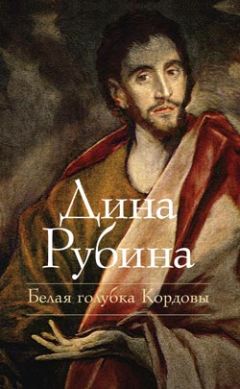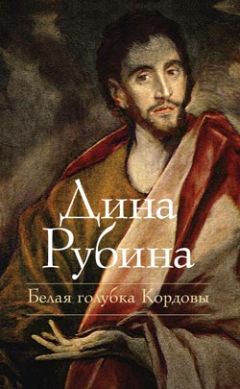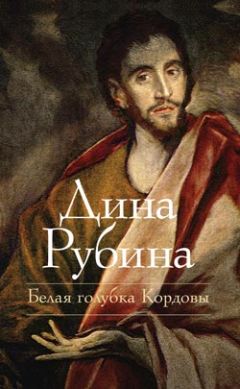– Отойди! – кричит Заккарийа, – отойди! – и с силой отстранив Халиля, – да никакой это, к чертям, не Халиль, а скупщик, гад, Юрий Маркович, сволочь, прочь!!! – тянет руку за своим наследным кубком, за уделом своим: прочесть скорее, прочесть, что же там, на подставке-юбочке выбито?.. А вот оно, вот… – дрожат влажные от волнения руки: «Последний срок сдачи реферата – в начале марта, коллеги!» И словно издеваясь, пляшет гравированный галеон-трехмачтовик на крутой волне, и кубок выпадает из руки – стук! – и прыгает вниз, пересчитывая каждую из стеклянных полок – звяк! звяк! звяк!
Он открыл глаза… Легкое колыхание ангельски-белого крыла на широком окне, белые ризы мадонны, палома бланка… О господи, где я? Что это? Звяк… звяк… звяк… звяк… звяк…
Он сел на кровати, с силой потер лицо, медленно приходя в себя. Ну, да: Италия, озеро Тенно, альпийский рай у подножия горы Мисоне. А звяк – это коровий колоколец. Под него даже уютно спать – нормальному человеку, само собой, а не тебе, известному коллекционеру ночных кошмаров.
В который раз он вспомнил не этот, привычный и призрачный, а настоящий кошмар: то утро, когда Жука обнаружила пропажу. Ее вздувшееся парусом, побелевшее горло и вылезающие из орбит глаза. Вот тогда он оцепенел от необъяснимого, никогда ни до, ни после не испытанного страха, и застыл, окаменел, не заслонялся руками, пока она била его кухонным полотенцем, горько рыдая и беспомощно выкрикивая: «Наш удел… подлец!мерзавец!наш удел!!!»
…Жука, простишь ли ты меня!
Он накинул халат и вышел на балкон.
Раннее утро в глубокой альпийской тени гор: немыслимая картинная красота, противопоказанная любому живописцу. Словно Всевышнему в этих краях изменило чувство меры, и вместо нежнейшей растушевки, он – особенно в полдень – пошел в ярмарочный разнос, шлепая буйные краски на клеенчатый коврик: высокие пики изумрудно-зеленых гор, прямолинейная «сочная» синь высокого неба, отполированная гладь озера с крошечным островком торчащих вразнобой берез…
Но ранним утром здешние краски еще деликатны и бледны. Легкая прозрачная кисть…
Со стороны виллы Эдуарда и Сильваны доносился разновысокий лай множества собачьих глоток, и взрослых и щенячьих: Сильвана разводила собак альпийской пастушьей породы, и месяца два назад у них народился очередной помет.
Прямо в халате он вышел на крыльцо пансиона, мимо рабочего-косаря (бонжорно! – бонжорно, синьоре!) – сбежал по зеленому косогору к росистой калитке. Та открывалась прямо в озеро, деревянные ступени уходили с небольшого помоста в воду…
Сегодня можно поплавать нагишом – Сильвана вчера увезла на случку одну из любимых сук, работник, косарь, не в счет, а единственная, кроме поместья Эдуарда, вилла на противоположном берегу выглядит если не вовсе покинутой, то пока безлюдной.
Он скинул халат, шумно выдохнул и сиганул в холодную, нереальной прозрачности воду и поплыл в предвкушении толчков ледяных ключей споднизу, с самого дна. Они упруго били в живот и в грудь, нанося неожиданные дерзкие удары, и в этой бесцеремонной ласке горного озера таилось изысканное наслаждение…
…Смешно: с какой это стати ему приснилась сегодня шелковая лавка Халиля? Он не был там года полтора. А, вот почему: он рассказывал вчера Эдуарду о тамошнем бизнесе изготовления святынь, заодно описал Халиля, пожилого перса противоречивой внешности: робкие водянисто-зеленые глаза и рот, изобилием острых зубов похожий на акулью пасть. Кажется, что во рту их втрое больше, чем требуется: поверх одного ряда вразнобой и как бы про запас растет еще один – как вон те березы на островке.
Этих шелковых лавок в мире пять: три в Сирии, одна в Дубай и вот, последняя – в Иерусалиме; и здесь, у Халиля можно потолковать с портными иерусалимских патриархов самых разных конфессий. Сюда на несколько часов наведываются и кутюрье с мировыми именами, и портные из Ватикана: праздничное облачение для церковных иерархов тоже шьется из дамасского шелка. А лавочка-то с гулькин нос: спускаешься по узкой боковой щели рынка и внимательно двери считаешь – не пропустить бы. Входишь и попадаешь в маленькую комнату. Под ногами, сквозь толстое стекло пола, виднеются ржавые на вид глыбы явно археологического происхождения, хозяин уверяет – византийского. Ну, Византия здесь – вчерашний день.
Помнится, в самом начале, в короткую бытность его рабочим на раскопках в Старом городе Иерусалима, Захар был потрясен тем, что тонны черепков византийских сосудов грузовики сгружали под откос. А найденным лично им ржавым кривым ятаганом руководитель раскопок запустил под гору, как бумерангом, пробормотав: – Э-э! Оттоманская империя…
– Простите?! – помнится, воскликнул Захар. – А что же мы… ищем?
– Как – что? – с раздражением отозвался профессор. – Артефакты Первого храма, разумеется!
Но – да, лавка Халиля… Главные чудеса хранятся на втором этаже, куда ведет винтовая железная лесенка. Взбираешься по ней, и в первый миг отшатываешься: даже в свете слабой лампочки тебя ослепляет змеистый блеск шелковых тканей, повсюду сваленных штуками, как попало – как зубы Халиля. По стенам развешаны шали и покрывала, платки и салфетки, тканные золотыми нитями, шитые жемчугами и полудрагоценными камнями. Пронзительный блеск дамасского шелка разит наповал, как сразил он воинов тех десяти римских легионов, что гнались за парфянами и вдруг отпрянули, взвыв тысячами глоток, от ослепляющего ужаса развернутых под солнцем шелковых полотнищ: драпающие парфяне догадались развернуть свои знамена во всю неимоверную ширь. В отличие от римлян они уже тогда знали секрет изготовления шелка.
Ах, поменять бы на это оружие весь современный арсенал огнестрельных игрушек… кроме моего «глока», само собой. Надо бы спросить у Халиля – вырывают ли и сегодня языки у ткачей, как в прежние добрые времена, – дабы те не разболтали секрета производства шелка? И вот еще что: надо разориться и купить в подарок Марго пару наволочек из этой нежнейшей и легчайшей ядовитой материи.
После купания он неторопливо позавтракал на балконе, отмечая поминутные изменения плотности цвета в продолговатой лазурной чаше внизу, под косогором. Молчаливый работник уже собирал в мешки скошенную траву, и сюда, к балкону долетал запах сомлевшего на солнце клевера и еще каких-то невыразимо благоуханных трав.
Затем часа полтора, задвинув стол и стул к стене, в угол балкона, так, чтоб никто не смог его увидеть, он в небольшом альбоме писал акварельными красками несколько этюдов – для будущих Нининых пейзажей, – намечая основные цветовые планы, освещение, состояние здешней световоздушной среды, – эту бесконечную ясную даль, колебание воздуха… В таких беглых этюдах он исследовал соотношение масштабов – гор, неба, воды. Тут важна была еще и точка зрения наблюдателя, с которой открывается водная поверхность, поэтому озерные планы он строил несколько укрупненно.
Это невесомое, выстланное по дну белым известняком альпийское озеро было окружено зубчатыми горами.
По утрам в нем струилась шелковая рябь, как в тихой реке: горный ветерок тревожил рассветную воду По мере того как утро веселело и свет проникал все глубже в прозрачную толщу воды, становилось видно, как рыбы стоят в ней неподвижно одна над другой. В подернутой купоросом зеркальной пластине озера прибрежные деревья отражались так ясно, что можно было листья пересчитать. А крошечный овальный островок в центре, с дюжиной берез, в точности повторял себя в воде, как фигуры в картах.
В эти утренние часы неподвижное озеро предъявляло все оттенки зеленого: малахит, бирюзу, лазурь, прозрачную цельность изумруда… Днем его затягивала истомная жарь. Оно останавливалось, зависало. Зависали рыбы в воде, стрекозы над кустами. Вверху зависало бездумное небо… Вода становилась непроницаемо, травянисто зеленой, отполированной.
И колоколец коровы, пасущейся на склоне одной из дальних гор, позвякивал сюда вяло и редко – как задремавший сторож своей колотушкой.
Но к вечеру вновь налетал свежий ветерок и все пробуждалось; в свете уходящего солнца множество зеркальных лекал на темно-зеленой воде качались, играли вдоль травянистых берегов, будто старались подмыть бегущую вокруг и в точности повторяющую очертания озера тропинку.
* * *
Эдуард, хозяин виллы и пансиона, был немцем, потомственным скульптором в четвертом поколении. По натуре бродяга, альпинист, изобретатель новых рискованных видов горного спорта, он в молодости жил повсюду болтался там и сям, затевая многие дела, из которых самым успешным была фирма по экспорту гранитных глыб для скульпторов.
Лет тридцать назад, штурмуя в этих краях очередные вершины, он набрел на нежный овал чистейшего голубого лика, влюбился в окрестные места, в старинную деревушку неподалеку и купил целый склон, на котором построил каменный двухэтажный дом – для себя, и крепкий флигель из светлого душистого дерева – пансион с пятью квартирками – для всяких чудаков, вроде, вот, тебя, Зэккэри, кому не нужны развлечения и шум курортов Ривьеры, а нужна тишина, запахи трав, альпийский колоколец на шее далекой коровы и синь-прозелень уникального озера, с самой чистой в Италии пресной водой, я не шучу, можешь пить эту воду каждое утро!