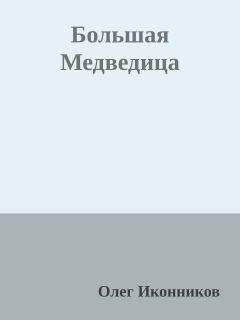Задержанное, растянутое надолго мгновение. Беззвучная для меня музыка, магия неслаженного на вид танца, жаркий запах, полумрак — а может, еще и укол не сразу осознанной памяти о том, как я точно так же впервые подходил к аудитории в Педагогическом институте, начинающий преподаватель, свежеиспеченный кандидат наук, и меня озарила та же улыбка вполоборота. Соединится потом. Даже черная обтягивающая майка такая же, только без надписи, конечно. Тридцать лет назад. Поправила что-то на затылке. Нет, в это мгновение вместилось что-то большее, не поддающееся словам, чему еще лишь предстояло раскрываться, развертываться, вместе с чувством или догадкой о том, как связано в жизни все: отдельная для каждого музыка, ничего не значащая улыбка, ревность, наделяющая силой и способная обессилить, соединения нейронов в мозгу, игра закодированных, неявных систем, необъяснимость выбора, который называют судьбой, как будто он не совсем зависит от нас, во всяком случае от нашего понимания, и поэзия неосуществимого, невозможного…
Лиана. Имя было, надо полагать, восточное, но словно специально для нее созданное, оно змеилось, льнуло (гибкий побег обвивает, едва коснувшись, еще, еще). Крупные удлиненные серьги в ушах, темные камни, загадочный свет изнутри. Лиана Измайлова. Из семейства, можно было понять, непростого, приезжала и уезжала с охраной на черном громадном майбахе, двое чернявых, с усиками, дожидались ее в вестибюле или в машине, с легкой шубкой из неизвестного мне серого меха. То, что девушка из такого семейства могла появиться в безрукавке с такой надписью, означало, что ей многое было позволено — пусть до известного предела, пусть на один день, больше она в этой майке не приходила. Но и одного такого раза достаточно.
Я не знал, всерьез ли собиралось семейство приобщить девушку к бизнесу, посылая ее в этот университет, просто ли ради престижного диплома, в южных краях это всегда ценилось. Но меня она приходила слушать из личного интереса, я потом мог убедиться. Занятий не пропускала, единственная записывала за мной от руки, в тетрадке. Посмотришь, одна из тех добросовестных студенток, у которых к экзаменам всегда найдутся конспекты, потом дают попользоваться другим. Право, точь — в-точь как моя Наташа тридцать лет назад. Но с Наташей я уже успел узнать, что первое впечатление бывает обманчивым. Если я нечаянно встречался с девушкой взглядом, она каждый раз отвечала мне улыбкой, приходилось за собой следить. На переменке, перед зеркалом в туалете, как-то поймал себя на том, что пробую себя увидеть ее глазами. Подтянутый, без брюшка, седоватые виски без лысины, щеточка благородных усиков, право же, моложавый. Серый костюм, прилегающий пиджак с галстуком, в тон седине, покрой самый модный. Наташа купила мне его специально для этих занятий, и о белоснежной рубашке заботиться не забывала. ну, что об этом.
Двое молодых людей притаскивались на мои занятия, скорей всего, ради нее. Усаживались все трое в дальнем конце аудитории, хотя места впереди были пустые. Спортивного, в меру накачанного парня звали Пашкин, Станислав Пашкин. Черную рубашку навыпуск лишь такой несведущий в моде человек, как я, мог считать небрежной, она стоила, наверное, дороже всего моего костюма с галстуком вместе. Мягкая ткань с отблеском консервной банки. И прикатывал он в университет на тачке не какой-нибудь, а бентли. Чем-то мне было неприятно его грубоватое, неинтеллигентное лицо с челкой, эта серьга в ухе, надо было от себя отгонять недопустимое для преподавателя предубеждение. Слишком в него вникать не стоило — обнаружишь вдруг что-то вроде возрастной ревнивой зависти. Нет, нет.
Рыжий, Роман Тольц, выглядел довольно нелепо рядом с этими уже вполне зрелыми молодыми людьми. Вчерашний школьник, не до конца оформившийся подросток. Бедный смешной влюбленный, он был мне, во всяком случае, понятен. Ему я мог скорей посочувствовать. На занятиях он и с репликами вылезал то и дело, старался произвести впечатление — не на меня. Выпендривался, как сказали бы в наше время.
Так сложилось, я сразу выделил для себя эту троицу. Зачем ходили другие, с разных факультетов, и сейчас сказать не берусь. Может, потому что хоть один гуманитарный курс в университете был обязателен, и вдобавок существовала какая-то накопительная система оценок, учитывались не только экзамены, зачеты, письменные работы, но и посещаемость. Приходилось выбирать хоть что-то, мои занятия показались не самыми обременительными.
А может, надеялись услышать что-нибудь занятное, не сразу поняли, не разобрались. Держали перед собой раскрытые ноутбуки, не знаю, за мной ли записывали или занимались чем-то своим, играли в закрытые от меня игры, — я предпочитал не выяснять и прогулов не отмечал.
На первом занятии попробовал заговорить с ними о классике, должно быть, осточертевшей всем в школе, о том, зачем она все-таки нужна. О ее способности создавать общее культурное пространство для разрозненных, разбредшихся групп, объединять одиночек, позволять им при встрече хотя бы опознавать друг друга по общим позывным, перекликаться на языке, заложенном младенческими считалками, детскими сказками (все ведь вспомнят Курочку Рябу, Колобка), строчками Грибоедова или Крылова (даже если забыли или не знали источник), пока он не совсем вытравлен компьютерным и прочими сленгами… Оживление в заднем ряду вынудило меня прерваться. Молодые люди рядом с Лианой неприлично фыркали, девушка отмахивалась, смуглые щеки порозовели.
— Вам что-то непонятно? — спросил я. — Я что-то сказал забавное?
— Она не знает, как писать Курочку Рябу, с большой буквы или с маленькой, — охотно пояснил рыжий. — Она вообще первый раз про нее слышит.
— У них там в детском саду начинали с покемонов, — добродушно осклабился Пашкин.
Лиана подняла на меня смущенный, как будто виноватый взгляд. Улыбка стала еще прелестней. В детском саду. В Баку или Махачкале. (В Баку, потом уточнил.) Успела вырасти без русских сказок, в другой стране. Как я когда- то в Германии понял, что не смогу уже по-настоящему полюбить раскрашенных толстеньких гномиков в чужом саду, только свое. Что такое покемоны, мне самому пришлось еще выяснять, понимания это не прибавило, наоборот, лишь разрасталась область, укрытая тайной, которой до конца не дано проясниться. Испорчу жизнь.
Объяснить ли, почему, едва оказавшись дома, я устремился нетерпеливо к Наташе, хозяйничавшей в кухне, накинулся на нее, как в молодые времена, среди бела дня, не дав закончить салат, удивив ее, ошеломив, восхитив, сам восхищаясь все больше, бормоча ей в ухо бессмысленные, превосходящие смысл слова, — не желая самому себе ничего объяснять.
6
Слова, почему-то не подоспевают вовремя нужные, вспоминаешь потом, запоздало, и что с них толку? Без слов, кажется, понимал больше, не по отдельности, когда приходится ставить в связь Курочку Рябу, гномов за чужим палисадником, шоколадные скульптуры в витрине, называть сокращение лицевых мышц улыбкой, объяснять ее действие игрой веществ, называемых гормонами, выстраивать для себя доступный пониманию, условный мир, приспосабливать безмерное к ограниченным возможностям мозга. Вдруг что-то в мозгу сбивается, перемешивается, не знаешь, как что назвать, — а понимание разрастается, набухает. Смотришь замерши на потолок, сквозь его туманную белизну, пока создание в небесно-голубом одеянии подсоединяет тебя к капельнице, исчезает, успеваешь лишь ощутить, не видя, посланную с высоты улыбку и думаешь о загадке женской улыбки, женской способности обходиться без объяснений, без слов, знать нужное до них, поверх них — возвращаешься опять к Наташе, к Наташе.
Двенадцать лет — невелика разница, с годами она сглаживалась, становилась все несущественней, да я никогда ее всерьез не ощущал. Чужеродное вторглось в нашу жизнь, как зараза, ничто ее не предвещало. Неясное, смутное брожение, бурление в умах, чувствах, слово «перестройка» зачем-то предлагает себя, как будто что-то может пояснить. Заезжий немец, славист… как его звали?.. Клаус его звали, да, Клаус. расспрашивал меня о происходящем, оценил, выхлопотал приглашение на конференцию в Германию, тогда еще Западную, ФРГ. Происходящее доходило замедленно, воспринималось, как шум в голове: визит в потустороннее учреждение, называвшееся забытым уже словом «райком», райком партии, к которой ты никогда не имел отношения, но она все еще медлила расстаться с правом определять, решать судьбы. Неулыбчивые бесполые существа, помяв, пожурив, с неохотой, со скрипом разрешили открыть двери, выпустили в другую страну — а там другие двери открылись, беззвучно раздвинулись перед тобой сами. Теперь и у нас такие в любом магазине — но впервые! Другой мир, до тех пор ты даже не представлял — реально, не умственно — насколько другой. Другой свет в аэропорту, другой воздух, другие тротуары, дороги, другое выражение лиц, а уж витрины! В первый день особенное впечатление на меня почему-то произвела одна, с громадными фигурными изделиями из шоколада — как на деревенского мальчика. Не потому, что с трудом представилось, как люди здесь могут лакомиться таким скульптурным обилием, находят способ отломить кусочек от этих непомерных гладких объемов, — от удивления, что такое бывает. Смешно вспоминать. Забываем самих себя, какими были совсем недавно.