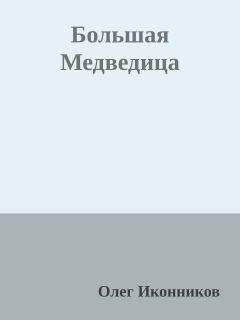Наташа и в этом Альберте что-то находила. Он, оказывается, разбирался в венгерской кухне. Провел в этой стране полтора года, сам неплохо готовил, поделился с ней рецептами. Выбор нашей девочки не должен, не мог быть неудачным. Мне оставалось полагаться на нее. Она со всеми умела найти общий язык. Я без общения мог обходиться, она, кажется, не выпускала из рук мобильник. Вся была в разнообразных хлопотах, в разъездах, опекала в каком-то своем благотворительном центре девочек — сирот, которых выпускали из детских домов в незнакомую жизнь, совершенно к ней не приспособив. Им давали бесплатно квартиры, не научив искать работу, вести хозяйство — да что там, сварить простые макароны, заварить чай, рассказывала она мне. Брошенные когда-то родителями, они в шестнадцать лет сами собирались рожать и заранее настраивались отказываться от детей, не знали, что с ними делать. Отлучалась иной раз надолго. Не любил я ее отпускать, оживали ненужные мысли, без нее непременно должно было что-то случиться — вот вроде явления этого рыжего студента.
Эту ее поездку тоже можно было назвать благотворительной: повезла продукты в тверскую деревню своей бывшей няньке Фросе. Не родственнице, всего лишь няньке, но та жила в их семье много лет, как родная. Наташа, можно сказать, выросла на ее руках в Твери, то есть тогдашнем Калинине. Когда родилась наша Соня, она позвала эту Фросю в Москву, поухаживать по старой памяти за новым ребенком. Я тогда наслушался ее рассказов. Как она несла в школу Наташе туфельки, уже с каблучками, под мышками, чтобы согревались. Была склизь, гололед, упала — чувствует в ребрах боль. Оказалось, этими каблучками себе два ребра сломала, да, вот так было. Как лечила Наташу от разных болезней, не нуждаясь в аптечных лекарствах, как хорошо от простуды помогает слой ольховых листьев, если на них полежать и укрыться ими же, но где искать ольху среди городских домов? Надо отдать ей должное, при ней Соня практически не болела.
Нам обоим тогда пришлось работать с утра до вечера. Фрося вела все хозяйство, за магазинные траты отчитывалась до копейки, выкладывала для проверки чеки, хотя мы этого не требовали. А каково было отказаться от ее кухни! Холодец из свинины с остатками щетины на шкурке, или то, что Фрося называла рассольником… до сих пор не могу вспоминать без спазма в желудке. В будни удавалось обходиться институтской столовой, в выходные Наташа компенсировала мои гастрономические страдания. Фросю она старалась не обижать, но непросто было соответствовать ее вкусам, представлениям о правильной жизни. Выбор своей воспитанницы та откровенно не одобряла. Ее возмущала моя утренняя гимнастика, да еще с гантелями, бормотала сама с собой. Дурью мужик мается, делать-то дома нечего, ни дров наколоть, ни воды принести. Когда увидела, что Наташа вместо меня стала забивать на кухне гвоздь, готова была закипеть. Сухая, суровая, губы неспособны к улыбке. Если добавить, что в тогдашнем нашем двухкомнатном жилье четверым было не просто тесно, любовную возню за тонкой стенкой приходилось ночами сдерживать, приглушать. ну, что говорить. Не по ней оказалась столичная жизнь, через полгода вернулась к себе в Марфины Горки. Облегчение было, надеюсь, обоюдным.
Наташа при возможности ее навещала, я как-то съездил с ней. Повезли продукты, крупу, сахар, муку, в деревне тогда все исчезло. А главное, конечно, водку. Не для Фроси, она-то сама в рот не брала и самогон не варила. Водка там была вместо денег, надежнее денег, без нее никто бы ей ни огород не вспахал, ни крышу не залатал. Проблема была в том, чтобы задержать расчет до окончания работы, иначе работники могли упиться, не приступив к ней. Но и начинать совсем без водки местные мужики отказывались.
Угодили как раз в такой промежуток. Плотник Федор, мастер, по словам Фроси, каких сейчас нет, разобрал ей на крыльце прогнившие ступени, новые который день не ставил. Пришлось подложить пока временные кирпичи, досточки, шаткие, опасные. Сходить за ним в дальний конец она при своих больных ногах сама не могла, звать через других таких же старух, последних, кто здесь доживал, тоже не получалось. Теперь можно было послать меня, поманить бутылкой.
8
Вспоминалось потом, как сон: растянутый, замедленный проход по омертвелым, поросшим хилой травой улицам. Я слышал, читал про вымирающие деревни, но по рассказам не представлял, что это такое. Наташа наезжала сюда коротко, подробностей не расписывала, да за год — другой менялось, наверное, не к лучшему. Заколоченные окна, проваленные крыши, сквозь одну уже прорастало деревце, остаток стен со следами пожара. На покосившейся изгороди сохли серые мужские подштанники, рядом лиловые старушечьи рейтузы, разнокалиберные стеклянные банки на кольях. Что-то было, наверное, в тот день с давлением, атмосферным ли, моим ли артериальным. Неподвижный прозрачный воздух, напряженные ртутные очертания, нарастающий звон в ушах — и какой-то странный жалобный звук. Человеческий ли стон, собачье ли поскуливание, а может, поскрипывала, скулила незакрепленная дверь или ставня — но звук не отвязывался всю дорогу.
Дверь у Федора была открыта, на стук никто не отозвался. Большая горница имела вид нежилой, пустота делала ее еще более просторной. Голые стены в пятнах, тусклый свет из окна. У печки свалена груда старых газет и журналов. «Огонек» с цветной фотографией Гагарина, «Родная речь» для третьего класса, чуть в стороне распахнувшийся альбом с фотографиями, три — четыре вывалились из него на пол. Чьи-то выцветшие фигуры, головы, с расстояния не разглядишь. Серые, траченные временем семейные отпечатки, тени ушедшей отсюда жизни. Эхо собственного голоса отозвалось на спине мурашками. Я вышел во двор.
Хозяин полулежал под старой яблоней в ободранном раскидном кресле, опасно проступавшие пружины прикрыты прорезиненным пляжным матрасиком. Он, наверное, наблюдал, как я входил и выходил из его дома, — не шевельнулся, не реагировал даже на мое приближение. Багровое лицо в седоватой щетине, пестрая бейсбольная шапочка, ковбойка в сине — белую клетку. На приветствие не ответил, я что-то начал говорить — не откликнулся. Взгляд уперся в мое бедро, в карман, оттянутый бутылкой. Прихватил ее на всякий случай, не более чем для показа, меня предупреждали. И ведь вроде уже не ребенок, мог бы кое-что понимать в жизни, в людях. Пришлось вынуть, продемонстрировать…
Безвольная податливость сна. Мы расположились под той же яблоней за крепко сбитым столом, немытые граненые стаканы дожидались там всегда наготове. На дне одного сохла оса, Федор выковырял ее указательным пальцем. Чокнулись, понюхали по очереди зачерствелую корочку, он после меня.
— Про жизнь пишете? — заговорил вдруг. Должно быть, при нем упоминали о роде моих занятий. Я неопределенно пожал плечами. Про литературу писал когда-то. Про книги.
— Книги одно, жизнь другое, — оценил, помолчав, Федор.
Мне ли было не признать его правоту? В какие дебри понемногу свернул разговор, теперь уже не вспомнить, и нечего. Я словно еще продолжал надеяться, что плотник, в меру вдохновившись, в каждый следующий момент все же пойдет со мной. Водку, надо признать, я для деревни закупил не самую, как бы выразиться помягче, дорогую. Был грех, сам пить не собирался. Мне первой дозы хватило, чтобы оценить ее действие. Неразборчивый шум в голове, ни пересказать, ни объяснить. Говорил, собственно, один Федор, ему надо было что-то выяснить, подтвердить. Что-то неизбежно про политику, Горбачева, про Брежнева. Про Путина? И про него, наверное, утверждать сейчас не могу. Остатков трезвости или инстинкта самосохранения хватало, чтобы в обсуждения не вдаваться, дошло бы, глядишь, до выяснения взглядов. Но почему-то даже уклончивость воспринималась с нарастающим раздражением, почти враждебностью, хуже, чем несогласие. «Топор в бревно никогда не втыкают, ты это можешь понять? — внушал мне Федор, он перешел сразу на „ты“. — Никогда. Втыкать, а потом затесывать, это же рана для инфекции, понимаешь?» Тон становился все более агрессивным, мысль о воткнутом топоре непонятно плотника задевала. Все стало трухой, направлял он к моему лицу черный ноготь, все! Теперь и хоронят в трухе… И что- то еще о гробах, о грибах.
Или это смешалось потом в смутной памяти: труха, грибы, гробы? Я малодушно кивал, поддакивал. Думал ли о чем-нибудь сам? О чем я тогда мог думать? О деревне, которая для городских интеллигентов, вроде меня, была создана когда-то деревенской прозой, где теперь та и другая? О своей нелепой отравленности литературой, без которой жизнь так же невнятна, как этот шум в голове, как грозный голос без слов, как расползающиеся вокруг очертания? Нет, мысли составлялись уже задним числом, когда я пытался тот день вспоминать.
Воздух все больше мутнел, его заменяла, густея, дымная мгла. Непонятно было, где и что жгли, дым растекался без ветра, запах был гнилостный и какой-то приторный. Если бы он не вынудил меня наконец уйти, неизвестно, чем бы еще мог обернуться тот разговор. Федор моего ухода, кажется, не заметил.