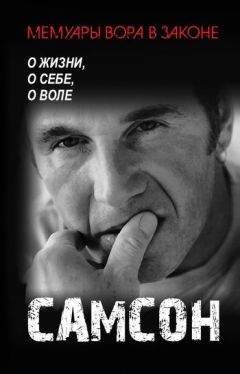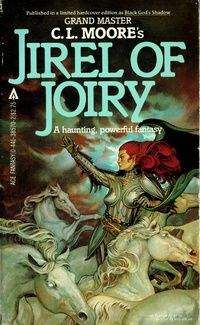– Я… Я сейчас здесь властитель,-крепчал ветер, силы его все прибывали, набирала обороты свирепость, сопутствуемая разгулом, воем и хаосом.
– Сейчас мое время, и никто не в силах помешать мне насладиться им вдоволь. Я всюду, я всемогущ, вездесущ и непокорен!
С крыши дома сорвало волнистый шифер, понесло и вдребезги разбило о землю.
Окна держались на щеколдах, дверь приотворилась. В комнате было спокойно и тихо. Заточенный в ней свежий воздух проникся некой покорностью. Все, казалось, застыло.
Лишь тонкая рука водила длинными пальцами шариковую ручку по белоснежным листам бумаги, оставляя причудливую вязь.
Оставшиеся сигарета и пара спичек вселяли надежду и утешение на пути к будущему, пролегающему среди многочисленных тетрадей, книг и альбомов, раскинувшихся на трех столах комнаты.
– Нет, не годится, совсем не то. Пишу совершенно не так, как чувствую, хотя, может быть, и о том. Какой же тогда смысл писать? Или весь смысл в отсутствии смысла?
Рука потянулась к сигарете.
– Нет, последняя, пусть пока остается. Где же твоя одержимость, Анна? Позвонить Майке, что ли? Хотя, ух, их сейчас нет, я ведь вчера передала им приглашенье ребят, а сама не пошла. Никто меня так радушно не принимает, и нигде я не нахожу себе такого приюта, как в одиночестве.
Взор ее снова устремился к окну.
Она давно не чувствовала себя такой опустошенной, как сейчас, невольно поднялась, подошла к высокому шкафчику в соседнем с ее столом левом углу комнаты, сняла с вбитого в его боковую стенку гвоздя зеркальце и поставила его перед собой.
– Стареем, Анна?
Морщины завоевывали кожу ее лица.
Несмотря на худобу, обвисал и двоился подбородок. В основания подкрашенных волос прокрадывалась седина.
– Нужно покраситься, да и губы потрескались.
Она несколько раз провела указательным пальцем по нижней губе, потянулась рукою к сумочке и покрыла помадой щербинки и трещины.
– Не пойду в понедельник к ученому секретарю. Не с чем идти. Получается не то, чего я хочу. Хотя ему это, может быть, и понравится. Бездарность в науке совсем не то, что бездарность в искусстве. Мало того, что могут не понять и не признать, можно еще и здорово навредить себе и другим. Пока подходишь к заключительному аккорду, начинает не нравиться первый. Приходится начинать все сначала, и порой кажется, что конца и края этому нет. Всю жизнь учись, мучайся и томись. Природа однозначна и настоятельна в своем требовании к обществу. “Мне нужны лишь некоторые из вас, не важно, кто именно”. Тут-то все и начинается. Тут и кончается.
В соседней комнате раздался телефонный звонок. Анна долго не двигалась с места, потом решила ответить. Прошла до пункта ПК, приоткрыла дверцу и, взяв ключи, направилась к звонившему телефону. У двери она услышала последний звонок.
– Опоздала. Сколько я опаздывала в жизни?! Может, большей частью оттого, что спешила?! Как сейчас, да?!
За окнами на ветвях ели едва различались два оранжевоклювых, подразнивающих друг друга дрозда.
Обычно утро они начинали с песен, а к вечеру понемногу свирепели и переходили к серьезным баталиям.
Дверь комнаты отворилась. В вечерних сумерках едва можно было разглядеть женщину из смога.
БЛУЖДАНИЕ
Казалось, погоня длилась целую вечность. Сумерки и препятствия, на которые то и дело приходилось наталкиваться, все более усложняли бег. То тут, то там группа автоматчиков, по нескольку человек, в черных комбинезонах, появлялись из-за угла всякий раз, когда уже было казалось, что удалось скрыться от них. Как только беглец оказывался в поле их зрения, они пускали длинные очереди из автоматов.
Были и промахи, и попадания.
Было и больно, и страшно. Но страх, пожалуй, господствовал и над болью, и надо всем.
– Ну вот, слава Богу,- с надеждой взмолился беглец, подобрав автомат, брошенный одним из преследователей,- теперь я покажу вам, чертям полосатым, где раки зимуют!
Первая же встреча с настигающими обнаружила неполноценность найденного оружия.
– Черт побери, вроде такой же, как у них, и стреляет, порой даже и попадает, а не косит кровопийц. Бессмертные они, что ли?- приходилось думать с досадой. – Должна ведь хоть когда-нибудь кончиться эта погоня?
Последовало легкое прикосновение, с которым связалась вся надежда на освобождение.
Прикосновение повторилось.
– Проснитесь,-послышался нежный женский голос.
Глаза пришлось открывать уже при свете.
Трусы сползли с бедер словно бы самовольно, без принуждения. По голой части тела несколько раз прошлась женская рука. Растегнувшаяся нижняя пуговица халата обнажала взору белосежные гладкие стройные ноги почти до самых бедер.
Резкий контраст между происшедшими и переживаемыми событиями словно переносил все из яви в сон.
Чуть позже почувствовалось резкое покалывание, сопуствуемое прерывистым вскриком.
– Не надо, нет! Сделайте в другом месте.
– Хорошо, успокойтесь.
Последовало второе покалывание.
Боль оказалась терпимее.
– Все, успокойтесь! До завтрашнего утра вы свободны.
Сквозь боль глаза проводили легкую походку враскачку. Потом потух свет.
– Надо же, какие красивые ноги у этого коромысла! -угасало во сне сознание.
Потом было утро. За ним уже знакомая походка враскачку.
Милая улыбка. И вслед за ласковым “доброе утро” вновь знакомое покалывание.
Глаза уже не провожали походку, а пытались угнаться за мыслями. Гнойный фурункул возле шейного позвонка заметно уменьшался в размерах.
Чаепитие с суррогатным медом на работе из всех сотрудников почему-то сразило только Гурама.
– Вот она, расплата за жизнь и за свой доблестный труд. Иглы гнутся, черт возьми. Одно из двух: не годятся или они, или сиделка. Возможно третье: не умеют колоть. В любом случае нелегко.
– А попробуй сказать, что они не умеют колоть! Прямо-таки полезут в атаку, мол, сам напрягаешь мышцы, от этого и боль.
Кому что докажешь!
– Ну, что, Гурам, больно?- с ехидной усмешкой заметил сосед по койке, пожилой Або.
– Послушай, Гурам, как же ты не можешь понять, что когда тебя колют, нужно расслабиться,- пожал плечами молодой Бесо.
– Вот и они против меня,-подумал Гурам,- только их мне и не хватало. Хоть бы уж Бесо помолчал. Всего только тридцать один, а уже второй раз распарывают живот. И все от выпивки, от лошадиных доз. Пьяница! Ай, да пусть говорят, что хотят, мне что мне за дело!
За окнами легонько покачивали верхушками высокие тополя. Светло-серые тучи неслись по бессолнечному, хмурому небу. Это все, что можно было видеть, лежа в кровати, кроме разве уголка небольшой больничной палаты.
Бесо снова пустился в свою суесловную ересь о прошлом, связанном с постоянными, бесперебойными выпивками и вытекающими из них последующими дебошами. И все присутствовшие в палате, как и всякий раз, погрузились в перипетии его приключений.
– Все логично и верно,-думал Гурам, отвлекаясь от скучного рассказа Бесо,- это должно было произойти все равно, рано или поздно! Как ни печально, но мои опасения сбылись.
Страшное предостережение, осознанное и открытое Гурамом в сознании, действовало, как казалось ему, безотказно, в большей или меньшей мере повсюду, все оказывалось субъективностью, объективность коей выражалась так или иначе в постулате о том, что “старость социальная неминуемо приводит к старости биологической, пусть даже в молодом физически возрасте”.
Смерть социальная приводит к смерти биологической.
– Мир, полный загадок и противоречий, уготавливает для желающего познать его суть посредством слияния чувственного и рационального, несет вред, которым словно бы наделено и напичкано любое добро.
– Знание не всегда помогает, порой оно тяготит…
Гурам понял это не так давно, и всякий раз, когда он уединялся с набегающими мыслями, его охватывали злоба и гнев. Среди запомнившихся наставлений прошлого, детства и молодости, он ни разу не слышал предостережения: “Осторожно-знание”. Хотя и был благодарен за то, что ему в этом мире удалось осознать и понять.
Он не раз терял и вновь находил тот путь, которым шел по своей жизни. После последней потери, казалось, заблудился надолго, забрел, как ему казалось, в тупик, не знал, как выбраться из него, и не мог ничего поделать.
– Он никогда не знал, куда идет. А знаете, сказано: кто не знает, куда идет, тот пойдет дальше всех!-объяснил Бесо.
– Слава Богу,- с надеждой подумал Гурам.
Удалось услышать от пропойцы хоть одну умную фразу.
Правда, не совсем и не всегда. Когда не знаешь, куда идешь или даже когда знаешь, часто задумываешься и останавливаешься. Не подымаются руки, и не двигаются ноги.
Но ведь движение и есть способ существования материи. Движение физическое, движение психическое. И именно в их совместности ощущается это движение.
Если человек существует, как общее биологическое и социальное, то становится ясным, почему без какой-либо указанной стороны человека не существует вообще.